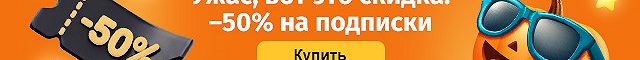
Но на этом заигрывания с литературой не закончились. Решившись, наконец, одним яростным наскоком захватить внимание пользователей, Ю. уселся за сочинение рассказа, в котором слова должны были выполнять функцию ключевых запросов. Текст довольно быстро заполнился фразами наподобие «пелевин читать online», «скачать книгу», «сказка текст» и другими, более или менее, по замыслу автора, соответствующими тематике. Логика была довольно проста: оптимизаторы сайтов ничего не смыслят в литературе, а литераторы, как правило, ничего не смыслят в поисковых системах. И те, и другие оперируют текстом. И только он – Ю. – способен оперировать текстом со всех сторон. От этой мысли он чувствовал себя важным и даже нужным, а потому успех его на писательском поприще казался ему делом ближайших дней, и – с первым же обновлением поисковых баз – Ю. проснется настоящим писателем. Но обновления шли своим чередом, а успех заставлял себя ждать. На счетчике уникальных посещений сайта каждый день значилась одна и та же цифра – «1». И этой цифрой был он.
Ю. ничего не понимал. Сайты, которые он продвигал в поисковых системах, – все как один попадали в топ. С его собственным – словно нависло проклятье: выходила какая-то отвратительная ерунда. Сначала он грешил на малый возраст сайта, слабую перелинковку и прочие хитрости поисковой оптимизации – и усердно трудился над улучшением веб-ресурса. Но, в итоге, Ю. пришел к выводу, что дело вовсе не в оптимизации. Пропасть времени с каждым днем была все глубже, счетчик же посещений оставался неизменным: один. Ты – один, Ю.
Наконец, следуя булеву множеству и собственному, пожалуй, болезненному, самолюбию, он оставил два варианта из двух возможных: либо Ю. ничего не смыслит (и это, скорее, – ложь), либо ничего не смыслит читатель (и это, скорее, – правда). Такая логическая откровенность – неожиданно, но, опять же, логично – привела его к полной свободе, которую, однако, он ненавидел: нет читателя – нет смысла думать о том, что он подумает. И Ю. стал писать так, как ему хотелось. Прежние литературные опыты были безжалостно уничтожены, как «потакающие читательской безвкусице». Ю. отказывался принимать то обстоятельство, что, может быть, «опыты» действительно были никудышными, а вся эта напускная безжалостность – только поза, темное и постыдное желание казаться очередным непонятым гением, сгинувшим во тьме равнодушия. «Нет ничего более гадкого для автора, чем потакать читателю, вкусы которого вполне позволяют существовать Соле Аховой», – вопило из темных глубин души его отравленное самолюбие. «А может, ты просто дрянной писатель? И неудачник?» – добивал себя Ю., решительно вколачивая острые вопросы в сердце своего сомнительного таланта. Отчаяние быстро переходило в ощущение старости и принимало соответствующие формы: Ю. начинал клониться к земле, шаркал ногами, подолгу застывал с каким-нибудь предметом в руках, вспоминая: зачем же он здесь? Предмет или Ю.? Память иногда очень дурная привычка. Он пытался отвлечься и влезал в очередные дурачества: то учился вязать, то брался за изучение вымершего языка программирования, то писал бесконечно длинные письма скорым и витиеватым почерком, воображая, что адресат их прочтет сразу же при получении – спешно разрывая конверт на ходу, – вопьется влюбленными глазами в каждую нервную строчку, в каждую взлетевшую и нырнувшую витком звонкую согласную (не было никаких адресатов – и Ю. мастерил из писем самолеты, и пускал их с окна: иссеченные знаками они почти всегда стремительно пикировали и, совершая бесполезный подвиг, врезались в холодную землю); то выдумывал всякие глупости: обклеить стены выцветшей комнаты скриншотами случайных постов, выписать в аптеке лауданум, подобно искалеченным войной модернистам, бесконечной войной, страшной войной, отрывающей ноги, от которой не убежать, – нет, что бы сейчас было? зайти ради хохмы в аптеку и спросить настойку лауданума с совершенно серьезным видом, своровать бланк рецепта с печатью у дежурного терапевта в поликлинике, исчеркать бланк латынью (ведь теперь каждый врач думает, что язык мертвых подвластен только докторам, вранье, как обычно, не подвластен), да ничего бы и не было: покрутят у виска, вот дама дородная в кожаных тапочках или резиновых сланцах (что хуже для ее здоровья), почему в тапочках? – весь день у прилавка плюс лишний вес, лишний возраст, прилипшая к телу склонность к лени – вот почему? потому что такой груз не выдержишь на каблуках. Да и возвышать такое свое положение, да еще и у прилавка, в конце концов, – смешно и пошло. Неужели они это понимают? Нет, не понимают, просто тяжело. И вот дама крутит у виска, смотрит со скукой и ждет, когда ты попросишь настойку боярышника, потому что больше у нее в это темнеющее время ничего не спрашивают; потом ее время снова кончится, она переобуется в удобную и растоптанную обувь, опершись полными руками на колени и, тяжело вздохнув, поможет себе встать, устало распрямится, возьмет дерматиновую сумку, и, закрывая за собой дверь, выключит свет. После включит его на кухне, вспыхнет газовый цветок на плите, задымятся щи, наедятся дети, наестся муж и – спать. Даже представлять тошно. Храп и тикающие часы.
Нет, правда, давай зайдем?
Но Ю. не сдвинулся с места, молчанием отклонив собственное предложение.
Неправда. Тошно потому, что неправда. Была милая девушка с открытым лицом, задорными веснушками на слегка очерченных скулах. Она училась на фармацевта, потому что в детстве любимой игрой было лечить своих кукольных маш и кать, олегываныча (он мог бы быть «александровичем», но «р» еще не выговаривалось) и выписывать рецепты беспородному другу Тошке. Тошка чихал от сладких порошков из растолченной карамели, смотрел с любопытством и вилял хвостом так активно, что задние лапы отрывались от пола. И девушка выучилась на пятерки, большого ума девушка, и хотела поступить в аспирантуру, но юность, ветреность и отчаянная любовь, на которую способно только большое сердце, не дали. И были слезы от страха, и были слезы от счастья, и фата, и свадьба в столовой, и рождение первенца, не до аспирантур, потом второй, потом кризис, и надо хвататься за работу, ты – мать, у тебя дети, муж один не справится, благо, что не пьет и не гулящий, и пашет за двоих, и смотришь на него с укоризной и благодарностью, потому что совсем себя не бережет, совсем как маленький, может и шапку забыть надеть, а ведь уже возраст, уже фарфоровая свадьба скоро, а он все пристает по ночам, любит, чего любит-то? любить-то уже нечего, где та красота, где веснушки? Теперь ее красота, ее счастье в соседней комнате – два сына: младший ворочается и не может уснуть, потому что второй все сидит за лэптопом и вместо лабораторной пишет весьма пошлые сообщения своей подруге, которую, как он думает, любит, которая, как думает она, любит его. Но настоящая любовь теперь скрылась за одутловатостью, глубокими морщинами и тяжелым дыханием, пока еще не причиняющим невыносимой боли. Скоро оба сына уедут, дом опустеет, а дышать станет труднее. Муж даже бросит курить, чтобы жене стало легче. Не говори этого! Не представляй! Фарфоровой свадьбы не будет. Муж задушит ее подушкой и положит конец ее мучениям, потому что слышать ее крики от боли, видеть ее слезы и не положить им конец нельзя, невозможно. Он ляжет рядом с ней и обнимет, искренне веря в то, что ее душа наконец-то достигнет рая, пусть даже если для этого ему теперь придется спуститься в ад. Нет, пусть она умрет в глубокой старости в окружении внуков и правнуков со светлой улыбкой на вновь красивом лице. Хватит выдумывать трагедии, Ю., в конце концов, любовь не обязана заканчиваться страданием, в конце концов, любовь не обязательно заканчивается.
Последнее Ю. хотел написать шепотом, так, словно надев на слова сурдину, чтобы их оглушительным отчаяньем не разбудить уставших после бедного на радость дня соседей. Уж она-то услышит. Для нее-то и пишется. Для тебя. К шепоту приходится прислушиваться, обращать внимание, нельзя, невозможно прислушиваться и делать что-то еще, скажем, наслаждаться сливками на монблане (вот женщина раскрывает губы, кончик десертной ложки отправляется вглубь, едва доходя до ожерелья зубов, губы смыкаются, мужчина что-то говорил, снова, кажется, о любви, сливочный вкус напоминает о коленкоостром детстве, о пышных кустах сирени у самого подъезда, внутри которых был мальчишеский штаб, там я прятала свои сокровища: две стеклянные бусины, сквозь которые любила смотреть на свет, пустой флакон маминых духов, выкройку платья из старого женского журнала с пунктирами, превращенными в обозначения тайных тропинок только для самых-самых, большую блестящую прабабушкину медаль за войну, кажется, там – под ослепшим солнцем – взрывались мины, а она таскала за воротники окровавленных гимнастерок бывших студентов и школьников, собирала их руки и ноги, колола морфин, курила махорку в газете со сводками, «ни шагу», «не поднимай голову, дура!» – орал на нее лейтенант, бывший филолог, оказавшийся теперь с лохмотьями на плечах вместо когда-то нежных рук, но она поднимала, целовала его губы, глотала кровь его, теперь медаль в моих детских руках, в тени кустов сирени, ни один мальчишка не догадается, что я спрятала у них под носом, сколько лет, стоит ли тот дом, жива ли еще та земля? жива ли я? какое мертвое солнце сегодня, заглянешь в чашку – уже на самом донышке – обрывок облака дрожит, если слегка задеть пальцем, улетит совсем, там еще были качели, старые, скрипящие, из толстого железа, по вечерам там сидели старшеклассники и царапали по облезшей краске свои имена и плюсы, и имена еще, и в лучшем случае сердце, но чаще что-нибудь унизительное, что-нибудь простое, какой-нибудь член и рядом баранку, как страшно было впервые понимать, что ты прочитала слово «пизда» или «хуй», и даже оглядываешься, вдруг кто из взрослых увидел, что ты прочитала, что ты теперь видела эти слова, теперь тебе придется делать вид, что ты их не знаешь, и вот, садясь на исцарапанное железное сиденье, обжигающее с утра холодом, а к обеду оно станет слишком горячим и будет невозможно сидеть, и ты раскачиваешься, запрокинув голову, и такие же облака, и тоже обрывками, как теперь на дне чашки, черт знает где, за тысячи километров, взмываешь вверх, замираешь и – падаешь вниз – внизу живота странно тяжелеет, мне нравилось испытывать эту накатывающую приятную щекочущую тяжесть, однажды я соскочила с качелей на ходу, я любила спрыгивать, будто летишь, обернулась, и железное сидение ударило меня ровно в нижнюю губу, было много крови, были слезы и страшно больно, только теперь я помню один страх и никакой боли, и шрам остался, с годами все незаметнее, но если приглядеться, ведь он меня вовсе не портит, хотя я бы избавилась, видит ли он этот шрам? приглядывался? почему не спрашивал? видит ли он меня вообще? просыпаешься с утра и, еще не открыв глаза, думаешь: а вдруг он сейчас смотрит на тебя? и прячешься под одеяло, укрываешься, как в детстве, когда из одеяла делаешь пещеру и будто живешь в ней, в этой пещере, смотришь на далекий свет сквозь небольшую щель, чтобы только дышать и видеть, что там, за толстыми стенами, большой неуютный мир, в котором все выше тебя, больше тебя, тяжелее тебя, важнее, потому что всем можно говорить, что хочешь и когда хочешь, а тебя не спрашивали, зеленая еще, я не зеленая! – а он даже не смотрит, он вообще еще спит, рот раскроет, будто пыль собирает, а ты прячься, вот и сейчас рот раскрыл, говорит, что любит, правда? Правда?), кончик десертной ложки выныривает, оставляя на верхней губе едва заметный ободок сливок: «Повтори…»
И Ю. повторял. Изо дня в день, от сумерек и до сумерек, забираясь под одеяло и выпрастываясь из него. Губы его никак не могли привыкнуть к словам тысячекратно повторенным, но каждый раз новым.
«Хороший рассказчик всегда из провинции, – подытожил Ю., закурил и тут же продолжил, – хороший рассказчик всегда деревенский зануда, представивший, что только вернулся с железнодорожной станции».
– Ю. перелистывал страницу за страницей, пытаясь отвлечься. Текст выдавленный на шершавой бумаге напоминал пустынное континентальное шоссе, по которому мчался главный герой: ни заправочных станций, ни придорожных кафе, ни мотелей. На карте местность по краям длинного шрама дороги была усыпана стежками городов с яркими, словно это были пионерские лагеря, названиями: «Солнечный», «Зеленый дол», «Красный яр». На деле же: над пыльным геометрически скудным пространством тяжело висело свинцовое осеннее небо. Ю. отложил книгу, задернул плотные шторы, включил торшер, устроив осенний вечер посреди летнего задыхающегося дня. В следующем предложении он снова наткнулся на перечисления. И перечислений снова было три. И эта цифра, помнил он, переходила из одной книги в другую, будто авторов где-то учат, что между двумя крайностями есть еще что-то, без чего и крайностей не существует. И, вроде бы, все верно, но по отношению к языку казалось сомнительным. Ю. мысленно добавил к трем еще одно определение, пытаясь нарушить устоявшийся порядок, но только подтвердил его. Абзац шел за абзацем без всякого деления на главы: из пункта А в пункт C без остановок.
– Ю. часто скатывался на обочину: в цельный, без единой трещины, хорошо уложенный текст, вторгались его собственные воспоминания: переплетались во времени, поглощались его фантазией. И все было, разумеется, о тебе. Главный герой, сидя за рулем своего бьюика, представлял, как его беременная жена еще ждет его к ужину, в мясную начинку пятничного пирога добавляет корицу: все, как он любит; герой забывается и вместо ленты с пунктирной линией видит, как она вытирает руки о фартук, держится за поясницу, будто это облегчит тяжесть плода. Ю. же, представляя жену персонажа, наделял ее любимыми чертами: это были твои руки, это твои волосы прилипали к вспотевшему лбу, к твоим ногам я прикасался, пытаясь подушечками пальцев передать всю свою нежность. Я не могу на тебя наглядеться.
– Я не знаю, зачем отправляю эти фото. Иногда мне стыдно за это, я хочу, чтобы ты меня увидел и полюбил. Не знаю почему, я не помню, чтобы меня любили по-настоящему, Ю.
– Разве можно любить понарошку?
– Скажи мне, что он ее бросил. Иначе я буду чувствовать себя наивной дурой, я буду плакать от злости, не пытай меня Ю., не обманывай меня!
– Через две страницы герой представлял, как беременная жена проклинает его, в текст вторглись слова низкие, слова унизительные. Я пытался представить твое проклятье: и оно было молчаливым. Молчание – вот что самое страшное. Ю. закрыл книгу, я закрыл книгу, я не мог видеть, как автор бессовестно врет о тебе. Книга отправилась обратно на полку, к другим, которые все без исключения – о тебе: тысячи страниц одной бесконечной истории.
Ю. совсем разошелся. Ю. вдруг понял, что его кто-то слышит по-настоящему. И его слова принимают без опаски. Ему верят, ему наконец верят. Каждому слову. И он боялся произнести что-нибудь лишнее, то, что может быть, навредит, причинит боль.
– Не бойся, Ю., если мы вдруг пораним друг друга, значит близки, значит живы. Разве это не хорошо, Ю.? Я хочу быть тебе близкой.
– Сегодня почему-то запахло кленом. Я живу в высотном доме, на крыше которого шквальный ветер, а внизу, здесь, где я, – марево ползет по оконному стеклу. Однажды, ребенком, из простого ребяческого любопытства, я пробрался на крышу такой высотки. Я долго отмерял ступени в гулком пустом подъезде и вот – тяжелая железная дверь скрипит – и меня обдает ледяным зимним ветром. Я долго бродил по крыше, то и дело поскальзываясь, но так и не решался заглянуть за край. Вдруг сильный ветер стал еще безжалостней и потащил меня по обледеневшей крыше к пропасти – и я на́верно бы разбился, если по чистой случайности не зацепился ногой за какой-то трос, который удержал меня на самом краю. Я все-таки заглянул в бездну: там было белым-бело от снега – земли не видать: одна белая ледяная пустота несущегося в вихре снега. Это было настоящей сказкой для меня. Той самой, про Кая и Герду. Я до сих пор верю в бесстрашие любви. Настоящая любовь всегда бесстрашна.
– Ю., ты любишь меня?
– Теперь я стою в таком же высотном здании, на крыше которого мальчик смотрит в бездну, а за моим окном плывет марево. И пахнет кленом. Я сейчас представил, как мы сидим с тобой – Кай и Герда – на летней веранде и пьем душистый чай, и пахнет кленом. Нет, подожди, совсем рядом деревья, давай устроим небольшой пикник в их тени, как пишут в старых толстых русских романах: с корзинкой всякой снеди (хрустящие булки, вино), поодаль элегантные дамы в шляпках играют в бадминтон, мальчик в бескозырке и шортах, сверкая разбитыми где-то, в какой-то старой мальчишеской игре, коленками, гонится за воздушным змеем. То есть все это вдалеке, а мы под тенью клена, вокруг нас разливается его сладкая липкость и мы осторожно, соблюдая приличия, льнем друг к другу, нет, мы откровенно липнем друг к другу, совершенно не обращая внимания на мальчика, который уже с любопытством смотрит на нас: «Маменька, а что дядя с тетей делают?» Не смотри, Коленька. Уйдем отсюда. Мы остаемся, мы окончательно соединились, мы задеваем корзинку и вино льется на смятую траву. Я – Кай, из которого Герда все-таки сумела вынуть осколок того самого льда с той самой крыши. Да, я люблю тебя, моя Герда!
Ю., давай всегда засыпать вместе. Давай. Но подожди закрывать глаза. Поговорим еще. Мне нужно тебе сказать сейчас, пока мы впиваемся друг в друга словами. Мне ужасно хочется с тобой говорить, хотя бы просто ради говорения. Для этого, кажется, даже изобрели какой-то специальный термин, обозначающий болтовню, разговор ради разговора.
– Например, если я спрошу как у тебя дела? Как ты там, Ю?
– Нет, то есть, да, но в твоих словах, ты ведь и на самом деле хочешь знать, как у меня дела, правда?
– Правда. У меня есть подруга. Она думает, что многое повидала, она шутит, что у нее нет определенного места жительства и это, в каком-то смысле, верно, потому что она постоянно куда-то переезжает, меняет города и страны, люди проносятся мимо нее короткими sms и, если и сохраняются в памяти, то всплывают только тогда, когда требуется очистить историю. Утопленники, захлебнувшиеся парой слов. Она видит их, улыбается им, «какая сегодня погода», «да», – отвечает она, – «oui», – отвечает она, – «yes», – улыбается, потому что так заведено, потому что люди должны видеть тебя доброжелательной, должны видеть, что у тебя все хорошо, что ты контактна, а не социопат, который вот-вот влезет в очередную депрессию, и она отвечает так, как от нее ожидают, и как ожидает она, то есть «хорошо». Мне кажется, для нее действительно нет места. Ю. была на похоронах ее младшего брата, горячо ею любимого. Даже погода, казалось, соответствовала: был дождливый, по-осеннему пронизывающий холодом и сыростью день. Конечно, она хотела всеми силами поддержать подругу, но даже самая сильная поддержка в таких случаях выглядит – как же это выглядит? – наивно? – наивно, да. Ю. приобняла и не нашла ничего умнее, чем спросить в красные от слез глаза: «Как ты?» И даже тогда подруга ответила, кривя рот в улыбке: «Хорошо». Я готова была ударить ее. Не за этот очевидный обман. И так понятно, что ничего хорошего, что все напротив – ужасно и невыносимо. Это унизительно, это бесчеловечно – отказываться от собственных чувств и мыслей, отказываться от самого себя! Даже для меня – своей подруги – она смогла выдавить только «хорошо, спасибо». Любимый человек умер, так поплачь же о нем! И я ударила. Пощечина ее оглушила. И меня. Так и ушла оглушенная. А через неделю подруга открыла входную дверь, села на самый краешек моей постели (я всю неделю тогда проболела и не вставала, кругом бардак, таблетки и стаканы, разбросанные тетради, пустые пачки от сигарет – зачем я все это? – воздух был удушлив и болен), и сказала, что плакала все это время и не могла остановиться. Но не потому, что потеряла брата, а потому что ничего не почувствовала. Сказала, что не врала и этого испугалась – этой правды: прежде она пряталась за улыбкой потому, что так почему-то требуется, теперь она уже просто не может быть искренней. Где-то потерялась эта искренность. Где-то внутри. Ухнула в темноту и теперь не сыщешь.
О проекте
О подписке
Другие проекты
