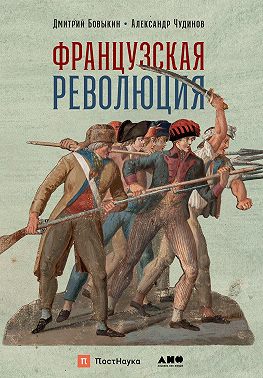Один из вопросов, который ставят авторы книги, была ли Французская Революция, сопровождавшаяся большой кровью и масштабной людской трагедией, неизбежной?
По их мнению, её можно было избежать, если на определённых развилках были бы приняты другие решения. Также можно допустить, что у Старого Режима, несмотря на множество проблем, оставалась возможность реформировать себя без революционного кровопускания. Хотя рассуждения такого рода остаются своего рода спекуляциями, и случилось всё так, как случилось, сама идея развилок в истории мне всегда представлялась интересной. Думаю, ничто никогда не предопределено, хотя, естественно, есть наиболее вероятные сценарии.
Возвращаясь к предреволюционной эпохе во Франции, одним из таких узлов можно считать так называемые реформы Мопу при Людовике XV, которые, казалось, могли стать началом серьёзных изменений. С другой стороны, на ум приходит too little, too late.
Если отойти ещё немного назад, не было бы поражения Франции в Семилетней войне (нередко называемой в американской литературе франко-индейской войной), не было бы у династии Бурбонов идей реваншизма. Людовик XVI не увеличивал и без того высокий дефицит тратами на поддержку борьбы североамериканских колоний за независимость. Впрочем, не потеряй Франции все свои владения в Северной Америке (и, следовательно, поступающие оттуда доходы в казну), существует вероятность, что североамериканские колонии в тот момент не осмелились пойти на открытое восстание против британской короны. Иными словами, изменение одного события в истории может (в теории) создать другую последовательность событий и в итоге привести к каким-то другим историческим картинам. В одной из которых, революция во Франции не началась бы в ставшим роковым 1789 году. Стоит также учитывать, что, несмотря на популярность терминов «абсолютизм» и «абсолютная власть», французская монархия была ограничена фундаментальными законами и власть короля в старорежимной Франции никогда не была абсолютной. Что, впрочем, не отменяет, весьма несправедливого налогооблажения и различных сословных ограничений.
Нельзя исключать, что исход для монархии и Людовика XVI был бы иным, если бы члены Учредительного собрания, проведшие много часов в обсуждениях, работая над первой конституцией, превратившей Францию в конституционную монархию в 1791 году, получили бы возможность избраться в Национальное собрание. В течение последующих нескольких лет будут приняты новые конституции. Страна словно пыталась определить свой путь, путём ошибок и ценой человеческих жизней.
Члены Конвента при этом не собирались отдавать власть. Так, когда возникла угроза, что на свободных выборах роялисты могут получить большинство в обеих палатах, был принят закон, по которому две трети мест отойдут членам действующего Конвента. Это спровоцировало волнения в Париже и подорвало надежды реставрировать монархию.
Авторы рассматривают события, начиная с 1789 года, когда разразилась французская революция, и завершают своё повествование 1799 годом, когда произошёл переворот, положивший конец правлению Директории и приведший генерала Бонапарта к власти. Отмечается, что нельзя с точностью определить, когда революция завершилась. Любая предложенная хронология будет условной.
Кратко говорится о том, что предшествовало началу революции.
В последние годы правления Людовика XV были проведены упомянутые выше реформы Мопу, когда удалось сломить сопротивление парламентов (судебные органы во Франции Старого порядка), долгое время мешавших проведению необходимых реформ. В частности, реформированию регрессивной системы налогооблажения. Однако молодой Людовик XVI, пришедший к власти после смерти своего деда, отменил эти нововведения и восстановил представителей парламентов в их прежних полномочиях. Решение нового короля, скорее всего, мотивировалось желанием понравиться своему окружению, которое не хотело лишаться никаких привилегий. Однако следствием этого скоропалительного решения станет оппозиция парламентов, с которой каждый раз будут сталкиваться попытки Людовика XVI и его министров провести изменения.
Образ самого Людовика XVI в данной книге довольно традиционный. Монарх, в целом желавший добра подданным, но в итоге не сумевший поставить государственные интересы выше личных. Это, если упростить.
Вспомнила, что я как-то рассуждала о некоторых взглядах на этого монарха и немного о теме революции в одной из своих старых рецензий.
Авторы вносят коррективы в портрет Людовика XVIII, показывая, что часто повторяемая фраза «Бурбоны ничего не забыли и ничему не научились» несправедлива к этому Бурбону и что реальность была намного сложнее. Король в изгнании, ждущий своего часа, готов был проявлять гибкость, объявлять широкие амнистии и идти на определённые компромиссы с новыми идеями и представлениями о власти и ограничении монархии конституцией и законодательными органами, хотя у его гибкости и готовности были свои лимиты.
В итоге авторы, на мой взгляд, верно отмечают:
Куда более гибкий, чем можно было бы ожидать от французского принца, внука, брата и дяди короля Франции, он [Людовик XVIII] готов был превратиться из повелителя в политика, в полной мере использовать искусство возможного. Поступившись личными пристрастиями, король во многом сумел объединить роялистское движение, освоил революционную терминологию, демонстрировал постоянную готовность к компромиссу. Но время требовало от него большего: умения вызывать любовь в сердцах французов, вести за собой в бой армии, оказываться в нужное время в нужном месте, интуиции, которая заменила бы информацию, способности рисковать, когда можно все потерять.свернуть
Работа также нюансирует образ Наполеона, сообщая, что, по крайней мере, некоторые рассказы о подвигах генерала Бонапарта - это часть наполеоновской легенды. Например, ситуация с Аркольским мостом, реальность которой расходится с тиражируемым мифом.
Небольшой корректировке подвергается и образ Неккера, министра финансов Людовика XVI, на которого народ и просвещённые элиты возлагали надежды. Решение Неккера брать займы у иностранных кредиторов для покрытия дефицита, привело к тому, что внешние долги монархии надо было отдавать. До этого монархия обычно брала в долг у местных заимодавцев. Следовательно, во время финансовых кризисов можно было найти повод, чтобы не возвращать такие долги.
Но был ли у Неккера простор для маневра в сложившихся обстоятельствах?
Делатели революции, те самые просвещённые элиты, по полюбившемуся авторам выражению, могли преследовать разные интересы. Внутри революционных групп (жирондисты, монтаньяры) выделялись радикальные и относительно умеренные элементы.
Революционные власти не только унаследовали от монархии реваншистские настроения, но и порой проявляли агрессивный настрой против других государств, вступавших в коалиции против Франции. В пользу того, что революционная Франция может вынашивать экспансионистские планы, говорит объявление всеобщей воинской повинности. Это был важный фактор, учитывая, что Франция в конце XVIII века была густонаселённой страной. Всё это не нивелирует тот факт, что многие в Европе были настроены против молодой республики.
Революционная Франция провела ряд нововведений, включая «превращение крестьянских держаний в собственность, ликвидацию ряда повинностей и десятины, отмену сеньориальных пошлин». Движение в этом направлении шло и до 1789 года, но революция, безусловно, ускорила процесс и реализовала изменения, которые были маловероятны до слома системы. Например, отмена сословных привилегий.
Многие привычные нам сегодня понятия из обывательско-политического лексикона, такие как правые и левые, появились во время Французской революции.
В книге развенчиваются некоторые устоявшиеся мифы. К примеру, история о том, как офицеры короля на одном из банкетов якобы топтали трёхцветные кокарды.
Как известно, в кризисные моменты истории слухи, сплетни и анекдоты часто становятся важным фактором в формировании политической ситуации.
Подытоживая, рассказ о революционных событиях получился достаточно нейтральным. Личная позиция авторов временами проступает, но она не мешает изложению фактологического материала. Трактовки, как мне показалось, даются сдержанно, без попыток навязать читателю своё видение сложной, многогранной и противоречивой темы. Возможно, в дополнение к теме просвещённых элит, которые то пытались оседлать «насущные требования плебса» и использовать их в своих целях, то стремились навязать какие-то настроения населению, стоило бы подробнее прописать контекст, фон, на котором разворачивалось трагическое полотно Французской революции.
В целом это познавательная книга, которая также напоминает, как много зависит от авторской точки зрения в любых трактовках исторических событий и персонажей. Каждый период времени стремится предложить какой-то свой взгляд, расставить акценты по-своему. Интересующимся остаётся помнить об этом и стараться составить собственное мнение.
3.75/5