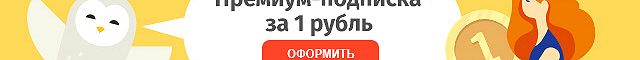
II. В Верном
Вот мы и в Верном. Я знаю, что здесь председателем областного ревкома мой товарищ по Самаре, Юсупов. Даешь Юсупова! В чужом месте, особенно в такой глуши, какая это радость – найти с первого раза старого знакомого. Может быть, он, этот старый знакомый, и будет чужд тебе наутро же; быть может, скоро-скоро найдешь ты здесь новых друзей, отличных товарищей и, вместо старого, к ним, к новым, привяжешься, но это потом. А теперь – сразу к старым знакомым!
Мы подкатили к ревкому: рослый стильный домина по главной улице. Он на углу выпирает круто вперед, кидается в глаза. Еще и не зная, что это за дом, мы поняли, что он должен быть ревкомом.
Дружеская встреча, охи-ахи, радостные восклицания, торопливые обещанья работать дружно, в контакте…
– И работы так много… Непочатый угол… И некому браться… Работников нет… Беда…
Он проводил до ближних Белоусовских номеров, где жил сам, где и для нас все готово. Правда, не сразу было добыто хорошее жилье, – первое время околачивались довольно сараисто и грязно. Но это не в счет.
– Как к делу приехал, ах, как к делу… – приговаривал Юсупов.
– Что такое?
– Да как же: у нас тут уездный съезд Советов… И надо доклад… О самом новом, о последнем – политический… Ну, раз из центра – твоя обязанность рассказать нам все, что было, и есть, и будет…
Я и не подумал отказываться. Да это и в самом деле отлично: сразу окунуться в здешнюю жизнь, в работу, интересы, вопросы, нужды, – что за блестящее начало!
Набит до отказа городской театр. Зрелище диковинное. Обстановка невиданная. Как будто и все здесь, словно у нас, – где-нибудь в Иваново-Вознесенске, Вичуге, Тейкове: за столом, на вышке, президиум клонит головы над пустыми листами бумаги; позади, у стены, прислонены знамена, и на этих знаменах все те же могучие крики:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
«Путь борьбы и труда – это путь освобожденья».
«Да здравствуют победные полки Красной Армии!»
«Да здравствует Красный Интернационал!»
Багровеет бархат, щекочет золото гигантских букв, массивное древко уперлось упорно в заплеванный, забросанный, затоптанный пол. Табачный дым густыми облаками ходит поверх голов. Лица серы, желты, бледны, матовы… Голоса сухи, трескучи, словно лучина, или глухи, сиплы и хриплы: сегодня последний день съезда, выговорились все до омертвения. Все-все, как там, в далекой России, на фабричных дворах, в сальных прокопченных столовых, где мы в семнадцатом году из господских салонов изъятый бархат и шелк перекраивали в ало-багровые знамена и писали зычно:
«Долой десять министров-капиталистов!»
Но глянь по изголовьям: вместо рабочих кепок – то чернополая шляпа, то увесистая шапка, картуз крестьянский, то целая баранья шкура или белая долгая простыня, замотанная так хитро и ловко – национальный головной убор. А вместо тужурки, пиджака – глухо запахнутые теплые шубы, зипуны, киргизские ватные цветные халаты… По рядам говор – удивительный, ни одним словом не знакомый. Что он, этот говор: про радость, довольство идет или зло потешается, проклинает, каркает беду?
Не знаем, не знаем, ничего не поймем.
А приходит урочный вечерний час, солнце обходит положенный круг, и эти делегаты, члены советского съезда, собравшиеся решать и выбирать пути в царство социализма, падают ниц и молятся восторженно, будто загипнотизированные, своему неведомому богу, воздевают руки, гладят себя по лицу, шепчут какие-то невнятные звуки молитвы. И снова слушают доклад. Потом перевод. Потом споры. И сами вступят в спор. И будут доказывать, убеждать, воздевая руки, бия себя в грудь, восторженно, пламенно, сердито.
Не поймешь… И стыдно, и жалко, и больно оттого, что не можешь понять эту вот сочную, такую нужную, важную речь; в ней подлинное, в ней жизнь, сегодняшний день. Его надо знать, иначе немыслимо работать. А его не знаешь.
И не узнаешь. Потому что немыслимо перевести, рассказать пламенную чужую речь. Переводчик всегда лишь осведомляет о том, что ему надо перевести. И от этого осведомления не остается почти ничего. Все пропадает. Живое, нужное, серьезное слово – уплыло. И мы от этих первых неожиданных уроков вешаем голову.
Кончатся речи. Уйдут делегаты в зал, по коридорам, сомкнутся у дверей – и снова о чем-то горячо толкуют, спорят. Волнуются о важном. Кричат. Потрясают кулаками, грозят… Кому? Нам или врагу нашему? Мы даже и этого не знаем. А речи, крики так громки, так волнующе свежи, так увлекательны неподдельной искренностью! Мы знаем одно: здесь, по Семиречью, главная сила – националы. И не столько татары, дунгане, китайцы, таранчи, сколько киргизы. По киргизским кишлакам вся советская глазная сила. Там, в них, – будущее советского Семиречья. И знаем мы еще, что по кишлакам киргизским мало у власти бедноты. Больше манапы, баи, тузы-богатеи, знатные господа киргизские. Только кой-где, почти случайно, на редкость, в совете кишлачном заседает трудовик, бедняк киргиз…
Вот они, делегаты киргизские, – в цветных чалмах, цветных халатах; дородные, упитанные, с незнакомо-замкнутыми лицами, странными, непонятными жестами, чужой, незнакомой речью… Они из советских киргизских кишлаков. Но что они думают? Чего хотят? С чем согласятся, на каких пределах и где, за какими пределами они восстанут как открытые враги?
Нам мучительно трудны эти коренные, самые важные вопросы. На них ответа нет.
А кулацкая деревня, сытая казачья станица, – они тоже прислали сюда не нашего комбедовского мученика, не безлошадного, безземельного батрака, не измыленного помещиком беззащитного, полуголодного испольщика. Нет таких. Здесь казаки – исконные. Да к тому же станицы казацкие будто в опале: не милует, не жалует, не любит их победительница – кулацкая деревня. И казак сердит на деревню. А с деревней – на Советскую власть, потому что деревня создала здесь Красную Армию и деревня прихлопнула казачьих атаманов: Щербакова, Дутова, Анненкова… Только немногие из станичников, все переборов и все переступив, знают, куда идти, за что бороться, где правда, где верная победа. Но этих мало. А коренная станица – терпит, но не любит – ох, не любит – Советскую власть! Мы и это знаем.
Вот они – делегаты кишлаков, станиц, деревень…
И каждый по-своему – друг и недруг советскому, большевистскому, новому…
Мы насторожились. Чувствуем двойственность. Еще не знаем, что и как станем делать в этой новой, своеобразной, трудной обстановке.
Знамена ало-багровы; солнечным золотом горят беспокойные лозунги; так же, как в родных рабочих центрах, здесь встанут и стоя поют «Интернационал»… И резолюции принимают: бороться… трудиться… строить…
Все, все – как там… И в то же время мы с первого дыхания чувствуем, как глубоко отличны эта обстановка, эта среда, это пение, эти лозунги, эти принятые резолюции. Надо быть осторожным…
Последний день съезда. Сейчас поручают сделать доклад… Что ж: идет.
О чем ином тогда было говорить, как не про новый курс, новые задачи нашего хозяйственного строительства… ЦК еще задолго до партийного съезда, то есть до 27 марта, опубликовал эти тезисы. И в центральной России каждая крошечная ячейка обсуждала их, искренне горячась, шумно радуясь, и повсюду – с острым, глубоким, крепким пониманием великих задач, намеченных здесь на близкое и дальнее время. Вот Туркроста эти тезисы размножил на серых тощих листочках и по Туркестану. От себя добавил:
«Особенно тщательно наши хозяйственные задачи должны обсудить коммунисты Туркестана, где борьба на хозяйственном фронте только начинается…»
Мы смотрим на этих делегатов и думаем:
Пункт пятый… «От централизма трестов к социалистическому централизму»…
Большой, серьезный пункт тезисов. Но что до него практически сегодня – этим семирекам, у которых нет ни заводов, ни фабрик, а одна только пашня, косяки степных кобылиц да пастбища поднебесных гор. Нет, на этом пункте застревать нельзя… Другой, седьмой.
«Выработка форм социалистического централизма»… восьмой, десятый, пятнадцатый -
«О ремонте паровозов и постройке новых».
Нет-нет, тут только пару слов, мимоходом, самых общих, а весь доклад построить, быть может, даже и не на главном… пусть, но оно ближе, нужнее здесь теперь.
Говорить здесь о «мобилизации индустриального пролетариата» не то что вредно, а попросту не нужно: слова останутся словами, толку от них ни на грош.
Тезисы – одно, а как их разъяснить здесь – это статья особенная.
И доклад построен был под Семиречье.
«Устанавливаются с удовлетворением бесспорные признаки подъема воли к труду в передовых слоях трудящихся»… – так начинались тезисы. Да, на этом полезно сделать остановку. Здесь можно сказать хорошие, нужные слова о превосходстве организованного коллективного труда над разобщенным, частным, случайным.
Потом – о трудовом соревновании. Этот вопрос в ту пору был и нов и свеж. Он взволновал глубоко, открывая новый путь, новую форму, новую подмогу.
Когда говорили об областных хозяйственных органах, о том, что «областные бюро должны иметь широкие полномочия в области непосредственного руководства местной хозяйственной жизнью»… – неподдельное оживление зашелестело по рядам, каждый понял по-своему – как ему любо – эти «широкие полномочия»: окраины всегда особенно охочи говорить и думать и спорить о своих полномочиях, – этой любовью, разумеется, пылало и глухое Семиречье… Говорили мы дальше и об участии масс в управлении промышленностью, и о спецах, и о ремонте паровозов, но мало: три четверти съезда – уж никак не меньше – в жизнь свою не слыхали фабричного гудка, паровозного свистка, не видели ни вагона, ни шпал, ни рельсов… Зато все силы были собраны, все знания, весь опыт и уменье – все было пущено в ход, когда прозвучали роковые для Семиречья слова одиннадцатого тезиса:
«Собрать путем высшего напряжения сил продовольственный фонд в несколько сот миллионов пудов».
Мы уже знали, что тут, на месте, никакие приказы о разверстке не помогали, что все сборы кончались пустяками: хлебное, сытое Семиречье мало думало о голодных городах, об изморенных деревнях республики.
Сытый голодного, воистину, не понимает. Гудели уныло на скамьях делегаты: хлебные жертвы им были не по сердцу.
А дальше – вопрос о трудовых армиях. Этот вопрос жгуч и злободневен: армия Семиречья переходит на положение трудовой. Как будто слушают и внимательно, а согласья, одобренья на лицах нет. Учтем. Через «субботники» (тут – улыбочки, усмешечки) – к концу: Первое мая!
Надо «превратить международный пролетарский праздник Первое мая, выпадающий в этом году на субботу, в грандиозный всероссийский субботник…»
Выслушали. Согласились. Одобрили. И спели потом «Интернационал». Но все это чуть-чуть не то… Мы выросли в ином краю, мы привыкли, чтобы и говорили, и слушали, и понимали по-иному… Мы чувствовали себя учениками…
В номерах Белоусовских с первого вечера мы себя чувствовали как старинные завсегдатаи; годы гражданской войны, метанье по фронтам, быстрая, часто внезапная смена мест, людей, обстановки – все это приучило смотреть на себя, как на песчинку огромных, гигантских валунов, которые ходят, вздымаются, мчатся из края в край по просторам пустыни… И везде тебе, песчинке, плечом к плечу касаться тысяч других, таких же, как ты, везде валуны одинаково тяжки, везде их взлет одинаково рьян, и дик, и страшен, везде тебя, песчинку, будет жечь все то же раскаленное добела солнце… И что тебе жалеть? К чему привязаться? Что дорого тебе вот здесь, на сотой, пятисотой, тысячной, десятитысячной версте? Не едино ли близко, не едино ли дорого? Только бы не отбиться. Только бы вместе. Взмет – во взмет, полет – в полет, паденье – в паденье, – но, разом, вместе, под одним ударом!
И мы, песчинки, привыкли так же быстро, легко родниться с любою обстановкой, как легко могли ее и оставить, бросить, забыть ради другой, в которую помчали волны разгоряченных валунов… Номера Белоусова. И точно такие же были у нас – на Дону, на Урале, в Грузии, на Кубани, в Сибири, по Украине, – где их не было. У каждого в своем месте – и по многу раз.
А потому нет для нас никакой разницы, нет нового, особенного, отличного: мы здесь, как и там, – у себя.
Худенькая, тихая больная женщина, годов сорока, с птичьим изморенным, бледным лицом, то и дело снует по коридору, – это Таня, коридорная прислуга. И мы сразу с нею все подружились, одарили ее кишмишом ташкентским, наши девушки и женщины сунули ей кто юбку, кто кофту лишнюю. Таня ставила нам самовары, с первого вечера стала нашим другом.
В номерах Белоусовских оживление чрезвычайное. По грязному длинному коридору, где вместо дорожки-ковра болтается под ногами нечто вдрызг измоченное и изодранное, снуют знакомые и незнакомые лица. То халат мелькнет цветной, то пестрая «тюбетейка», прошелестит тихим восточным походом куда-то в дальний номер киргиз – чей-то гость или товарищ.
То появится Лидочка и спешит-спешит легкой, воздушной, подпрыгивающей походкой, будто и не идет она, а летит, чуть носками касаясь земли…
Рубанчик – этот вечно в суете и торопится: и разговором, и походкой, и жестами, – ему всегда мало времени. Выскочит из номера, как очумелый, и несется вон – без фуражки, без пояса, обгоняя идущих впереди, едва не сбивая встречных. Он торопится всего-навсего в номер к Ионе, – и тот его, словно ушатом ледяной воды, окатывает своим эпическим спокойствием, какой-то олимпийской медлительностью действий, своим ясным, тихим, умным взором, медленной, покойной речью. У Рубанчика глаза прыгают, мечутся, искрятся, сверкают от беспокойства, а у Ионы под стеклышком, словно огоньки далекой деревушки, ровным, немигающим светом лучатся покойные круглые зрачки. Рубанчик – весь суета и трепыхание петушиное, у него ни рука, ни нога минуту не продержатся спокойно, а Иона может часами почти недвижимо оставаться на месте и думать, обдумывать или спокойно и тихо говорить, спокойно и многоуспешно, отлично делать какое-нибудь дело… Глядишь на него, и представляется: попадает он в плен какому-нибудь белому офицерскому батальону, станут, сукины сыны, его четвертовать, станут шкуру сдирать, а он посмотрит кротко и молвит:
– Осторожней… Тише… Можно и без драки шкуру снять…
И все-таки Рубанчик и Иона – хорошие приятели. Каждый другого любит за то, что он не похож на него самого. А еще за то, что каждый другого испытал и знает на работе, отличные, трудолюбивые, честнейшие ребята. Домчится Рубанчик к Ионе, а тут Лидочка подоспеет, – завязалась беседа.
Отеческой походкой подойдет, снисходительным баском поприветствует всех сидящих, дважды улыбнется, трижды похлопает себя по коленям и станет авторитетным, почти резонерским тоном убеждать и доказывать – Альвин. Он желт лицом, худощав и сух; по всем приметам, слабосилен и немощен, а живуч, как кошка, и все походы выносит без всяких заболеваний. С громом, грохотом и протестами неведомо на кого и за что врывается в комнату Мутаров, лихо на бегу срывает запотевшее пенсне и с остервенением протирает его не первой свежести тряпичкой, обзываемой в шутку носовым платком. Специальность Мутарова – делать беседу беспокойной и воодушевлять своих собеседников, волновать их и озадачивать сотнями вопросов и сомнений, которые, подобно несметным тучам звонкого комарья, постепенно кружатся у него в голове, не давая покоя.
Непременно постучит дважды в дверь и войдет спокойно, с трубкой в зубах, с иронической улыбкой на мясистых, тяжеловесных губах, потряхивая лохматою гривой черных кудрей, меланхолический философ Полин. Он имеет способность «абстрагировать» всякий факт и частный вопрос, – он их всегда возводит до «общего… целого… основного»… С ним беседовали и спорили чрезвычайно охотно, но лишь с одним постоянным и непременным казусом: от общих рассуждений кувыркали его безжалостно к живым и частным, более мелким и понятным фактам повседневной действительности.
Редко спорил, много молчал, ум копил у нас на глазах юный, женообразный Гарфункель. Через год в Фергане поймали Гарфункеля басмачи, долго пытали, потом пристрелили, а труп закинули в волны реки.
Верменичев был новичком в нашей среде – он пришит был ко всей компании только в Ташкенте, не вынес трудов самарской работы, не выстрадал долгого, месячного пути через киргизские степи, через Аральское море, – он был новичком и лишь позже сблизился тесней со всей компанией. С нами всеми была и Ная, – она заведовала потом театральными делами дивизии: по специальности. Нельзя забыть и про Алешу Колосова, – он был едва ли не самым юным из всех. Мы любили его за чуткую отзывчивость, свежую искренность, за горячий нрав и ясную голову: он, пожалуй что, на следующий день по приезде сел писать нечто вроде «популярной политической экономии». Алеша, написал ли? Потом он создал отличные партийные курсы и руководил ими до самых трудных дней, до мятежа, да и после того не сразу выбрался из Семиречья.
Эта компания недаром прикатила в Верный. Одни со мною, другие – через две и три недели, пока не закончили в пути порученного серьезного дела. Отличительной чертой нашей компании была глубокая товарищеская солидарность. Ни начальников, ни подчиненных по существу не было и не чувствовалось. Особенно здесь, в Семиречье, где мы сознавали себя как-то особенно близкими друг другу, как-то по-особенному крепко спаянными. И вопросы все решались не то что «коллегиально», а попросту, сообща: они прояснялись уже в наших беседах, частных товарищеских беседах, которые велись по вечерам, и когда надо было писать ли приказ, составлять ли инструкцию, разрешать ли затруднение, – налицо было совместно, коллективно продуманное мнение, и оставалось его только оформить, высказать, написать. По положению уполномоченного реввоенсовета, мне приходилось возглавлять эту рабочую группу, а равно и то учреждение, в котором многие из нас стали работать: «Управление уполномоченного».
По положению, мне приходилось подписывать единолично все приказы и распоряжения, вести разговоры по проводу, давать телеграммы, отсылать доклады, вести переговоры… Но уже теперь надо запомнить, что это только по виду, с внешней стороны, были действия единоличные, – по существу они представляли собою результаты наших официальных или неофициальных совещаний и бесед. Так было и в дни мятежа, разразившегося через месяцы, – и там документы, которые стану приводить и под которыми стоит мое имя, надо принимать лишь условно, не напрямик: имя – именем, нельзя же расписываться целой ватагой. Но когда надо рассматривать самые факты, действия, не надо упускать из виду, что решения
Бесплатно
Читать книгу: «Мятеж»
Установите приложение, чтобы читать эту книгу бесплатно
О проекте
О подписке
Другие проекты