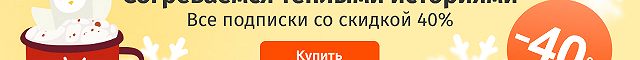
Следующее, что запомнил Кристоф из этой ночи – он, уже одетый и вооруженный, идет по парку. Ночь очень теплая, светлый месяц парит на сиреневом небе, ярко и удушливо пахнет цветами. Отчего-то предстала перед ним Фредерика ван Леннерт в костюме Флоры, и в руках она держала влажные от росы розы, и розы были из его давешнего бреда, красно-белые, он узнал их быстрее, чем ее саму. Она держала цветы прямо за стебли, покрытые длинными шипами, и эти шипы кололи ей руки, тонкие струйки крови, вытекающие из ее пальцев, пачкали просторные рукава ее белого муслинового платья. Она слабо улыбнулась ему и пошла вперед, а Кристоф последовал за ней. Девушка не оглядывалась, и с каждым шагом роняла по одному цветку. Когда букет кончился, Фемке обернулась к нему.
– Что все это значит? – спросил он.
– Ты избран, – добавила девушка и провела по его лицу окровавленными ладонями. А затем поцеловала его – кажется, он не был в этом уверен, потому что далее почувствовал, как теряет сознание.
Очнулся он в той самой комнате, куда когда-то заходил шесть лет назад, в имении своего кузена. Он знал, где находится, и не мог понять, как был перенесен сюда. Ведь оттуда до Митавы – верст восемьдесят, не меньше. Все те же портреты на стенах, все тот же круглый стол. За ним восседают одиннадцать фигур, облаченных в белое. Два канделябра на стене еле рассеивают мрак. А в середине стола – символ, слишком уж знакомый Кристофу. Он не помнил по прошлому разу, что он там присутствовал, но не удивился. Вообще, он отчего-то перестал удивляться.
– Ты жаждал свободы и ты ее получишь, – говорил тот, что находился напротив него. – Ни царь, ни Бог, никто тобой не будет повелевать, ведь ты сам – и царь, и бог.
– А почему же я? – прошептал он.
– Потому что ты рыцарь, – произнес ближайший к нему человек. В его голосе слышалось сочувствие, и Кристоф отчего-то проникся к нему симпатией.
– Так вы все рыцари, – барон оглядел их, пытаясь опознать и думая, что это ему удастся. – Достоин ли я быть среди вас?
– Вы задаете толковые вопросы, – послышался голос с другой половины стола, оставшейся в тени. – Можете быть уверены – достойны.
– Но я же ничего не знаю, – Кристоф говорил так, словно кто-то подсказывал ему ответы.
– Но уже многое умеете, – произнес его сосед.
Кристоф тут вспомнил об Армфельде. Ежели он здесь, так сможет все ему объяснить. Он спросил, и на этот раз вопрос принадлежал ему, а не был вложен в его уста кем-то другим, извне:
– Кто же из вас Девятый?
– Это вы.
Напротив себя он увидел портрет своего деда. И почувствовал, как все меркнет перед глазами.
Все, что он запомнил далее – блаженную тьму, из которой его вырвал яркий свет, отражавшийся от одиннадцати мечей Рыцарей-Братьев.
«Ступай, Брат наш, из тьмы к свету». И он присел в гробу, куда его положили. По груди его текла кровь и было немного больно. И эта боль позволила ему осознать себя, понять, что все произошедшее случилось наяву. Он оглядел одиннадцать фигур в белых плащах и впервые осознал то, что они из плоти и крови, как и он сам. Понял он, что они на самом деле не похожи друг на друга. Двое из них приблизились к нему, оба высокие, крупные мужчины. В одном из них Кристоф узнал соседа по круглому столу. Другой же протянул широкую ладонь, в которой рука барона почти исчезла, помог ему встать и проговорил:
– Кристоф-Рейнгольд, поздравляю. Вы теперь один из Знающих и Способных. Выговор его был типично остзейским, что приободрило Кристофа. Значит, он в окружении живых, а не призраков, и ему это не снится и не грезится в бреду.
– Все проходили через это, и все чувствовали то же самое, – сказал другой, столь же высокий, как и тот, который его поздравил, но более худощавый. Кристоф запомнил его зеленые глаза, яркие, почти без примеси другого цвета. Кого-то он ему напоминал, но он позабыл имя. Да и вообще, при ближайшем рассмотрении каждый из братьев казался смутно знакомым Кристофу.
Его, наконец, облачили в то же самое. И дали прочесть длинную клятву на латыни, половину слов из которых он не понимал. После «Amen» он уже ничего не помнил, а, очнувшись, обнаружил себя уже в карете, на пути в Петербург. Позже, пытаясь сопоставить всю последовательность событий и обнаруживая длинные пробелы в памяти, Кристоф долго спрашивал себя, как же все оно вышло. Слуга его клялся и божился, что ничего не видал, что барон изволил почивать до утра и никуда из комнаты ночью не выходил. Других свидетелей произошедшего было полно, но ни к кому из них барон не мог прибегать за помощью, потому что знал – никто из них ничего не подтвердит и не опровергнет. Одно он мог сказать с точностью – Рыцарем в ту ночь он стал. Девятым рыцарем, как уточнили те, кто разомкнул свой тесно сплоченный круг, чтобы принять его к себе.
Dottie. Материнское благословение
Метроном отсчитывал ритм, а тихий голос отмерял в такт ему: «Un, deux, trois, quatre…» Девочка, сидевшая за небольшим салонным фортепиано, более всего на свете боялась сбиться случайно, взять неверную ноту, замешкаться или, напротив, поспешить. Тогда останется только сухой стук метронома. А голос, тихий и нежный, смолкнет, и maman встанет, шурша юбками, и скажет строго: «À l’abord, Dorothée», и от каждого слова будет веять холодом и обидой. Девочка никогда не спрашивала себя, почему maman обижается, когда у нее что-то в гамме не получается, отчего в этом голосе появляется столь много металла, стоит ей услышать неверный ритм. Когда Дотти – а так звали эту девочку, худую, высокую, веснушчатую и рыжую, в коротковатом платьице и с тугой косой, перевязанной белым бантом, – выполняла урок музыки, разучивала новую пьесу, она представляла, что создает великое творение. Неверная нота – и гармония разрушена, творение выходит некрасивым. Такое бывает, когда пишешь письмо – и словно что-то дергает под локоть, случается клякса. Или рисуешь, проводишь неверную линию – и вот уже рисунок изуродован. Как хрупка красота! Пожалуй, Доротея бы больше огорчилась, если бы матушка была снисходительной к ее ошибкам и не понимала бы, что портить красоту и нарушать гармонию недозволительно.
Позже, вспоминая, что было до и что было после этой комнаты со стенами, обитыми розовато-сиреневым шелком, этого кабинетного фортепиано с желтоватыми клавишами, шороха материнских юбок и прохлады, веющей из сводчатого окна, Доротея понимала, почему она полюбила музыку. Именно во время этих занятий мать была рядом с ней и могла напрямую высказать свою радость или неудовольствие. Музыка помогала им обеим – в ней все зависело лишь от них самих. Совсем не как в жизни, где их обеих, как надоевших кукол, вышвырнули за пределы России. Все из-за того, как говорили, что матушка дала своей лучшей подруге, ставшей великой княгиней, непрошеный совет, та этому совету последовала, и муж этой лучшей подруги обрушил всю силу собственного гнева на матушку. Ей пришлось разлучаться с детьми, но дочь позволили взять с собой. На эту дочь, девочку худенькую и рыжую, ласковую, словно котенок, мадам фон Бенкендорф питала далеко идущие надежды. Ее она хотела сохранить и спасти от непредсказуемости и гнева. Поэтому нынче они находились в Монбельяре, и окна, выходящие в сад, показывали безмятежные зеленые кущи с лиловыми проблесками цветущей сирени, и каждый их день был заполнен музыкой и галантными увеселениями.
Анна Юлиана фон Бенкендорф сочла опалу вечной. Разлуку с мужем и сыновьями – тоже. А дочь ее должна была сделаться фрейлиной принцессы Вюртембергской. Судьба самой же Анны Юлианы была окончена, и она это понимала. Судьба ее дочери, названной в честь лучшей подруги, только начиналась, и нельзя было, чтобы ее перебило в самом начале.
А пока – сухой стук метронома, стрелка ходит туда-сюда, и девочка в светло-зеленом, под цвет глаз, платье, перехваченным розовым кушаком, играет гамму и слушает счет. Так повторялось изо дня в день. Конечно, были и обеды, и увеселения, и игры с юными принцессами Вюртембергскими, пухловатыми блондинками в кисейных платьях, и другие занятия – этикету, танцам, французскому, на котором девочка Дотти уже настолько свободно говорила, что из памяти почти полностью выветрился ее родной язык, и прочим изящным наукам. Но именно музыкальные занятия она запомнила более всего.
…В один из дней Анна Юлиана познакомилась с соотечественником ее супруга. Доротея запомнила, сколько же было в этом кавалере блеска – не военного, а светского. Мужчины, которых девочка доселе видела, были все грубы, и пахло от них табаком и порохом, и в танцах они были неловки, и даже мальчики уже носили в себе задатки суровой мужественности. Граф Эжен де Анреп – так его звали, и звучало его имя весьма галантно, будто бы прибыл он из Франции, ныне порушенной и полыхающей в огне революции. Они с матушкой беседовали в гостиной, нашли много общего, и Дотти уловила как-то: «Je ne crois pas que vous êtes vraiment le baron Baltique», и тот снисходительно улыбнулся и посмотрел на Доротею так, как на нее доселе никто не смотрел. От этого взгляда ей захотелось убежать, закрыться в комнате. Но она только улыбнулась.
После этого мать отослала ее готовить уроки, но Доротея, прилежно выводя строки из хрестоматии, могла слышать весь разговор.
– Вам скажут, что я был уже женат…
– Какая потеря! – восклицала матушка. – Ведь она была совсем юна.
– Увы, Господь меня не пощадил. Я хотел бы утешиться…
Далее они понизили голоса, но потом Дотти уже услышала:
– Ma fille est très jeune aujourd’hui mais c’est le temps de prendre les décisions pour le demain. (Моя дочь сейчас очень юна, но нынче настало время принимать решения на будущее)
– Mais votre mari… (Но ваш муж…) – возражал Анреп.
– Il sera d’accord avec moi (Он согласится со мной), – уверяла матушка.
Гладкий французский говор наполнял ее душу надеждой, и синие глаза кавалера говорили о многом, и лицо его, тонкое и нежное, виделось перед ней, и руки его соприкасались с ее пальцами в менуэте, и как же это было хорошо…
И на следующий день он присутствовал на уроке музыки, и она трижды сбилась, чувствуя его пристальный взгляд, устремленный на ее спину, прямо между острых лопаток, вырисовывающихся под тугим лифом платья, но отчего-то ей больше не было стыдно и плохо.
– Вы так играли, Dorothée, – проговорил он, после того, как последняя нота поставила точку в музыкальной пьесе. – Я никогда не забуду этой мелодии. И всякий раз, когда буду слышать ее, стану представлять себе вас.
От этих слов покраснела даже сама матушка. Та, нежная блондинка, краснела всегда до корней волос.
– Dites donc… – начала она. – C’est trop tôt. (Скажете тоже… Это слишком рано)
Но он улыбнулся столь же пленительно и даже слегка поклонился.
– Grand merci, – Доротея сделала книксен, ровно так же, как учили, и не могла не чувствовать, как взгляд этого человека оценивает, измеряет ее. Почему она?.. Граф Анреп всегда будет так сидеть, пока она играет? Хоть бы нет. Иначе музыка исчезнет, превратившись в хаос под его пристальным взглядом, устремленным на ее шею, грудь, на рыжевато-золотистую косу, спускающуюся вниз, почти до талии. Иначе даже матушка исчезнет, как лишняя, и Дотти останется с ним наедине. А находиться с этим кавалером наедине ей не хотелось.
Хорошо, что этот Анреп являлся к ним далеко не каждый день. Дотти спрашивала маму о том, что его явления означают, и что он за человек такой, и чуть ли не выдала себя с головой, спросив, был ли он до этого женат, и почему носит гладкое золотое кольцо на левой руке – неужели вдовец? Maman делала вид, будто эти вопросы ее не касаются, что ужасно бесило Дотти. Потом девочка добавила:
– Но пусть он не приходит на уроки музыки. Он мне мешает.
Maman нахмурилась и проговорила:
– Это я решаю, Dorothée, как проходят наши уроки и кто на них присутствует.
Доротея старалась быть послушной дочерью – на прошлое Рождество она именно такое обещание дала – и не смела дерзить матери. А сама стала думать – как же быть, ежели этот Анреп снова явится?
Тот явился еще раз, когда Дотти была свободна от занятий. И поговорил с ней о музыке.
– Вы не хотите учиться играть на флейте? – спросил он.
Доротея покачала головой в изумлении. На флейте?..
– Мне сначала требуется как следует освоить фортепиано, – отвечала она.
– Я так думаю, вы уже освоили его в совершенстве, – улыбка тронула его узкие губы.
– Ах, вы мне безбожно льстите, – в интонации Дотти появилось что-то кокетливое, женское, заставившее вспыхнуть ее собеседника под слоем пудры.
– Ничуть, – тихо произнес он. Дотти закрыла глаза. Многое представилось ей перед взором, и она очнулась ровно тогда, когда поцелуй ожег ее руку. Распахнув веки, она одернула ладонь и спрятала ее за спину, словно та была испачкана. И слова его донеслись сквозь пелену:
– Мое расположение к вам всегда останется неизменным…
– Как и мое к вам, – отвечала она, бледнея. Что все это значит?..
Далее все прекратило что-либо значить, поскольку во время одного из уроков музыки maman резко побледнела и откинулась на спинку кресла. Дотти прервала гамму на половине ноты и встала, устремившись к матери. Девочка никогда не могла забыть, как ее светлое и нежное лицо покрылось синевой, и как темные пятна крови окрасили ткань ее палевого платья, оттороченного белыми кружевами, и как Дотти отчаянно звонила в колокольчик, и прибежали горничные, и подхватили матушку под руку, и как остро пахло лекарствами в затемненной спальне, и как сама Дотти ничего не понимала, кроме одного – матушка изошла кровью и может умереть, потому как кровотечение и бледность – это верная смерть, и продолжалась эта болезнь долго, и надо было писать письма, и девочка быстро, стараясь не ляпать кляксы и помарки, передавала на бумаге то, что мать диктовала ей слабым голосом.
И в последние дни, когда доктор объявил: «Безнадежна», а Доротея отложила перо, дописав последнее материнское послание туда, в Петербург, к венценосной подруге, с поздравлениями в честь восшествия последней на престол, девочка получила странный дар от матери: золотую подвеску с крестом, вокруг которого обвивался цветок розы.
– Помни, я всегда буду рядом с тобой, – произнесла мать. – А теперь… я устала. Пусть позовут Анрепа.
Тот явился, и Доротея подивилась на его рост, на голову выше ее самой, и затем их руки были скрещены, и мать проговорила:
– Благословляю вас обоих. Живите счастливо… вместе.
Так их обручили.
Через три дня мать умерла. И уроки музыки закончились, и Монбельяр тоже закончился, и Доротею, вместе с телом матери, увезли в Ригу, и не было слез, и не было грусти, ибо эта напудренная кукла в розовом платье и белом гробу – не мать ей.
Доротее было одиннадцать лет, и она доселе не знала, что есть горе
Анреп пришел перед тем, как все вещи для отъезда Дотти были собраны, и он говорил что-то о хрупкости и тленности жизни, и вырвал обещание писать, и даже упросил у нее на прощание локон, который она срезала легкомысленно, прямо из косы. В эту минуту она завидовала самой себе, и, несмотря на скорбь, мир был полон красок.
Материнское благословение, такое как везде, и явилась женщина, величественная и строгая, обнявшая ее, сестру и братьев, по которым Дотти так соскучилась, что забыла все скорби, и серое небо, сочившееся дождем, а затем и другая величественная дама, мадам Лафон, принявшая их под опеку.
Других девочек они видели лишь на занятиях; жили они вдвоем, с молоденькой гувернанткой Элен фон Бок, и много вольностей позволялось им, и Дотти могла писать Анрепу куда угодно и когда угодно, и в театр их возили трижды в месяц, где их встречали музыка, огни и рампы.
И Дотти всегда могла подойти к пианино и выразить – чужими нотами и чужими чувствами – что ей одиноко, что она не знает, что будет дальше, и почему их всех, тех, кто у нее остался, так уж необходимо разделить. И золотой кулон – роза и крест – всегда оставался у нее на груди, последнее материнское благословение и завет того, что придет время, и тот, кому она пишет письма на трех страницах каждую неделю, заберет ее снова в комнаты с розовыми обоями и сводчатыми окнами, откуда льются звуки менуэта, а вечером сад освещают мерцающими фонарями, где господа элегантны, а дамы бледны и нежны, где не надо учить то, что не хочется, общаться со скучнейшей старшей сестрой, ходячей добродетелью, и ловить на себе завистливые взгляды других девочек. Она верила, что когда-то этот день настанет, когда-нибудь она вырастет и станет настоящей барышней, как старшие, как фрейлины, как великие княгини и старшие великие княжны. Доротея представляла себе, что волосы ее посветлеют и утратят этот пошловатый медный блеск, а глаза обретут безмятежность вечернего весеннего неба, и кожа станет чистой и белой, и фигура обретет плавность и мягкость, и она научится говорить столь же певуче, и двигаться столь же легко, как великая княгиня Елизавета или великая княжна Елена. И будущее, которым она жила, казалось ей ближе настоящего. Гораздо ближе.
О проекте
О подписке
Другие проекты