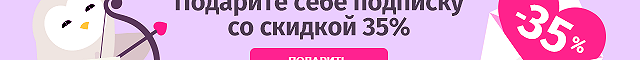
Наступил день премьеры – 7 декабря 1898 года. Вначале реакция публики была холодноватой и вялой. Шаляпин испугался. Но сцена галлюцинации произвела очень сильное впечатление, и спектакль завершился триумфально. На следующих спектаклях публика слушала музыку более чутко. Шаляпин чувствовал, что люди проникаются красотой и мощью музыки Мусоргского..
Савва Мамонтов все больше увлекался русской оперой. Они ставили «Майскую ночь», «Царскую невесту» и «Садко», только что написанного Римским-Корсаковым. Мамонтов принимал живейшее участие в постановках, а каждую премьеру воспринимал как светлый, радостный праздник. Чем больше Шаляпин играл Бориса Годунова, Грозного, Досифея, Варяжского гостя, Голову в «Майской ночи», тем больше он убеждался, что артист в опере должен не только петь, но и играть роль, как играют в драме. Особое внимание он обращал на естественность и ясность текста, который поет артист. Впоследствии Федор Иванович заметил, что артисты, желавшие ему подражать, не понимали его. Они не пели, как говорят, а говорили, как поют.
В то время, когда Шаляпин впервые сформулировал постулаты своей исполнительской деятельности, он встретился с ролью Сальери в опере Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери», написанной по драме А. С. Пушкина. Это была сложная и трудная задача. Диалоги и монологи опер, прежде им сыгранных, были написаны в известном смысле в традиционной манере, а Сальери приходилось вести в мелодическом речитативе. Шаляпин увлекся этой совершенно новой задачей, надеясь на помощь С. В. Рахманинова в преодолении этой своеобразной «оперной энигмы».
Все музыкальные движения были указаны автором «Моцарта и Сальери» обычными терминами: allegro, andante, moderato, но Шаляпин считал, что их не всегда можно придерживаться. Рахманинов объяснял, когда можно отступать от заданного темпа, а когда нельзя. Не искажая замысла автора, они нашли «общий тон» исполнения, выпукло рисующий трагическую фигуру Сальери. Моцарта пел тенор Василий Шкафер, артист, всегда относившийся с любовью к своим ролям.
С волнением, с надеждой на то, что «Сальери» покажет публике возможность слияния оперы с драмой, начал Шаляпин спектакль.
Но сколько души он ни вкладывал в свою роль, публика оставалась равнодушна и холодна. Артист был в растерянности. Но снова ободрили художники. За кулисами появился взволнованный Врубель: «Черт знает как хорошо! Слушаешь целое действие, звучат великолепные слова, и нет ни перьев, ни шляп, никаких „ми-бемолей”!»
Шаляпин знал, что Врубель, как и Серов, и Коровин, не говорит пустых комплиментов. Они относились к певцу товарищески серьезно и не раз жестоко критиковали его. Шаляпин им верил, видя, что они искренне восхищаются его Сальери. Их суд был для него высшим судом. И все-таки ему хотелось, чтобы это произведение, столь глубокое, хотя и несколько герметичное, стало понятным широким слоям публики.
Многие утверждали, что произведение Римского-Корсакова стоит не на одной высоте с текстом Пушкина. Об этом можно спорить. Но бесспорно было то, что это – новый вид сценического искусства, удачно соединяющий музыку с психологической драмой.
На это раз, в отличие от равнодушной публики, отзывы критики были единодушно восторженными. «…просматривая новую оперу Римского-Корсакова, видишь, что здесь больше, чем где-либо в ином месте, нужны редкие певцы, – писал критик Ю. Энгель, – которые могли бы всецело проникнуться драматическим положением героев Пушкина и в то же время были бы в состоянии пустить все средства музыкальной декламации, при помощи которых композитор еще расширяет и подчеркивает силу и значение чудных, трогательных пушкинских стихов»[13]…
* * *
Великим постом 1898 года труппа Саввы Мамонтова выехала на гастроли в Петербург, проходившие с 22 февраля по 19 апреля с перерывом в две с половиной недели. Спектакли играли в театре Консерватории, где имелась небольшая сцена в конце акустически невыгодной для артистов залы, похожей на большой коридор. На сцене было тесно, и такие картины, как массовая сцена с въездом Ивана Грозного на коне из «Псковитянки» там не очень удавались. Несмотря ни на что, спектакли шли с большим и все возрастающим успехом.
На одном из представлений «Псковитянки» в антракте после сцены с Токмаковым Шаляпин услышал за дверью громовой, возбужденный голос:
– Да покажите же, покажите его нам, ради Бога! Где он?
В дверях артистической уборной появилась могучая фигура с большой седой бородой, заслонявшая другого человека, брюнета, с тонким одухотворенным лицом.
– Ну, братец, удивили вы меня, – кричал бородач. – Здравствуйте. Я забыл вам даже здравствуйте сказать. Здравствуйте же! Давайте познакомимся! Я, видите ли, живу здесь, в Петербурге, но и в Москве бывал, и за границей, и, знаете ли, Петрова слышал, Мельникова и вообще, а таких чудес не видал! Нет, не видал! Вот спасибо вам! Спасибо!
Говорил он громогласно, волнуясь и спеша.
– Вот мы, знаете ли, пришли. Вдвоем пришли: вдвоем лучше, по-моему. Один я не могу выразить, а вдвоем… Он тоже Грозного работал. Это – Антокольский. А я – Стасов Владимир[14].
Шаляпин от радости не мог выговорить ни слова. Он молча, с восхищением смотрел то на знаменитого великана, то на Антокольского.
– Да вы еще совсем молоденький! – продолжал греметь Стасов. – Сколько вам лет – пятнадцать? Откуда вы? Рассказывайте!
Шаляпин что-то ему поведал. Стасов растроганно поцеловал Федора и со слезами на глазах ушел. Антокольский тоже сердечно похвалил его. Шаляпин был ошеломлен и неожиданным визитом, и похвалами.
На другой день он зашел к Стасову в Публичную библиотеку.
– Ну, батюшка, здравствуйте! Очень рад! Спасибо! Садитесь.
Нет, не сюда, а вот в это кресло.
Он отвязал от ручек кресла шнур, не позволявший сесть в него, и объяснил:
– Здесь, знаете, сидели: Николай Васильевич Гоголь, Иван Сергеевич Тургенев, да-с![15]
Он потрясал бородою, кипел, кричал, размахивал руками, весь – неукротимая энергия, весь – боевой задор и бесконечное русское добродушие.
– Вам, батюшка, надо в Англию поехать, да! Они там не знают этих штук. Это замечательный народ – англичане! Но музыки у них нет! «Псковитянки», «Бориса» нет! Им надо показать Грозного, надо!
Он рассказывал Шаляпину о миланском театре «Ла Скала», о мадридском Эскуриале и других великих театрах и музеях мира. Они расстались сердечно, как старинные друзья.
Стасов не пропускал ни одного спектакля Русской частной оперы. Выходя по окончании спектакля на поклоны, Шаляпин видел, как среди публики колокольней возвышается Стасов и хлопает широкими ладонями. Если же ему что-либо не нравилось, он, не стесняясь, громко выражал свое неудовольствие…
* * *
В 1897 году Шаляпин впервые поехал за границу. Уже в Варшаве ему бросилась в глаза разница между тамошней жизнью и всем тем, что он видел в России. Он ощутил приятное беспокойство. От Варшавы поезд понесся со страшной быстротой, так что стало казаться, что он вот-вот слетит с рельсов, и Шаляпин все выходил на площадку, чтобы в случае катастрофы спрыгнуть на землю. Да и удобнее было с площадки наблюдать быстро сменяющиеся виды: густо населенную землю, мощно растущую зелень, любовно обработанные поля.
Вена показалась ему огромной, необъятной, но еще больше поразили величественные массивы Альп. Он не хотел ложиться спать, все боялся что-либо пропустить. Он и ночью не спускал глаз с окна, глядя на ночные огни фабрик и зарево, колебавшееся в темных небесах. Наконец, он достиг цели своего путешествия, Парижа, куда его пригласил приятель из Мариинского театра, баритон И. А. Мельников, который там совершенствовался в технике вокала.
Было шесть часов утра. Шаляпин взял извозчика и направился в пансион на улице Коперника. Огромные серые дома, бульвары, церкви – все, что он видел, показалось ему знакомым, как будто он уже однажды был здесь. Вспомнились прочитанные в отрочестве романы Габорио, Террайля, Монтепена. Люди в синих блузах и фартуках мыли тротуары щетками, как матросы палубу парохода.
«Заставить бы их Москву помыть! Или – еще лучше – Астрахань!» – пришло ему в голову. Он заставил Мельникова встать раньше обычного. В груди у Шаляпина кипело буйное веселье. Хотелось петь от радости. Но приятели зажали ему рот, сказав, что все в пансионате спят и орать не полагается.
Шаляпин торопил их, чтобы поскорее одевались. Он сгорал от нетерпения, так ему хотелось видеть Париж.
После завтрака его повели смотреть Эйфелеву башню. Странное металлическое сооружение вызывало и восхищение, и чувство дискомфорта. Во всяком случае, было приятно с ее верхней площадки наблюдать панораму Парижа. Позже они направились в Лувр. Шаляпин кружил по этому музею, опьяненный его сокровищами.
Париж поселился в его сердце. Особенно ему нравилось чувство собственного достоинства, которое было в глазах у всех парижан, даже у извозчиков и слуг.
Проведя в Париже с месяц, друзья переехали в Дьепп, где жила дама-профессор, у которой учился Иван Мельников. Шаляпин изучал партию Олоферна из оперы А. Н. Серова «Юдифь». Когда он разучивал эту арию, молодая девушка-пианистка, тоже обучавшаяся пению, аккомпанировала ему, а он ее учил ездить на велосипеде.
Шаляпин навсегда полюбил французов.
По пути домой он заметил, что по мере приближения к России все более блеклыми становились краски, серее небо, а люди все ленивее и печальнее. Тревожное, досадное чувство глодало душу: почему люди за границей живут лучше, чем у нас, веселее, праздничнее? Почему они умеют относиться друг к другу более доверчиво и уважительно? Даже лакеи Парижа и Дьеппа казались ему благовоспитанными людьми, которые служат вам, как любезные хозяева гостю.
Приехав в Москву, он узнал, что его багаж где-то застрял. Все чиновники только пожимали плечами и говорили: «Зайдите завтра»…
* * *
Успехи Шаляпина привлекли внимание дирекции Императорских театров. Как раз в это время был назначен новый управляющий конторой Императорских театров, полковник Владимир Аркадьевич Теляковский. В театральных кругах посмеивались: «Человек заведовал лошадьми, а теперь будет командовать актерами!» Но Теляковский оказался знатоком искусства, театральным человеком до мозга костей, умным и проницательным. Под его руководством Императорские театры пережили подлинный подъем.
Зная о том, что у Шаляпина через год заканчивается контракт с Русской частной оперой, он решил опередить Мамонтова. Своему доверенному чиновнику В. А. Нелидову он дал следующие инструкции: «Взять Шаляпина, угостить его завтраком в „Славянском базаре”, вина не жалеть и с завтрака привезти прямо ко мне. Я уже его без контракта не выпущу – будет это 10-12-15 тысяч, все равно»[16].
Позже в своем дневнике Теляковский записал: «Контракт с Шаляпиным утвержден Всеволожским 24 декабря. Всеволожский находит, что очень дорого платить басу 9, 10, 11 тысяч. Я думаю, Всеволожскому обидно, что он Шаляпина убрал из Петербурга, а я, его же подчиненный, его взял обратно и с утроенным контрактом. Нюха нет у этих людей. Мы не просто баса пригласили, а гения, и взяли его еще на корню. Он покажет кузькину мать»[17].
Стратегический ход Теляковского увенчался полным успехом. Шаляпин подписал договор на девять тысяч рублей за первый сезон, десять тысяч за второй и одиннадцать за третий, причем в случае расторжения договора он должен был уплатить неустойку в сумме пятнадцати тысяч.
Вскоре после подписания договора Шаляпину стало жаль расставаться с Русской частной оперой, с Мамонтовым. Он пытался одолжить у состоятельных знакомых пятнадцать тысяч рублей, но не смог ни у кого занять такой суммы. «Все они как-то сразу обеднели», – заметил он впоследствии, – и с болью в душе я простился с Частной оперой».
В сезон 1899–1890 годов он перешел в Большой театр. Ему было двадцать шесть лет.
О проекте
О подписке