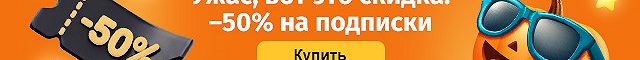
Введение
Британский посол Дж. Бьюкенен вспоминал, что в дни революции некий русский солдат якобы заметил: «Да, нам нужна республика, но во главе ее должен стоять хороший царь». Суждение, воспринимавшееся английским дипломатом как оксюморон, должно было подтверждать его мнение относительно странной политической культуры жителей страны пребывания: «Россия не созрела для чисто демократической формы правления…»[1]
Упоминания о подобных высказываниях русских простолюдинов встречаются и в дневниках иностранцев[2]. Они нередко желали представить Россию еще более экзотичной, чем она была, а стремление ее обитателей иметь «демократическую республику с хорошим царем» подтверждало, казалось, это мнение. И сводки российской военной цензуры цитируют письма солдат: «Мы хотим демократическую республику и царя-батюшку на три года»; «Хорошо было бы, если бы нам дали республику с дельным царем»; «Царя свергли с престола, теперь новое правительство, ничего, хорошее, жить можно, а когда выберут царя, да получше, – еще лучше будет». Некий цензор делал вывод: «Почти во всех письмах крестьян высказывается желание видеть во главе России царя. Очевидно, монархия – единственный способ правления, доступный крестьянским понятиям»[3].
Вряд ли все крестьяне и солдаты, высказывавшиеся так, были убежденными монархистами: ведь они хотели ограничить срок правления царя, предусматривали его избрание и переизбрание. Вернее было бы предположить, что понятия «государство» и «царство» они рассматривали как синонимы, им было трудно, даже невозможно представить государство без «государя», сильного главы государства. Нередко солдаты отказывались присягать Временному правительству, ибо само упоминание о «государстве» в тексте присяги рассматривалось как проповедь монархизма, – они кричали: «У нас нет государства, а есть республика». Офицер-фронтовик в письме от 12 марта описывал отношение солдат к тексту присяги: «Присягать сегодня, по-видимому, опять не будут – оказывается, их смущает имеющееся в тексте присяги слово “государство”; они думают, что это что-то такое, где обязательно должен быть государь, а государь, в их понятиях, непременно самодержец»[4].
Можно предположить, что солдаты, мечтавшие о «демократической республике» с «хорошим царем», желали установления президентской республики с большими полномочиями главы государства. Точно сформулировать свой идеал государственного устройства они не могли, ибо не владели необходимым политическим языком – не знали, как выразить свой авторитарный «республиканизм» иными словами. Трудности с «переводом» собственных идеалов на язык современной политики испытывали не только малообразованные люди, но и представители тех групп, которые до революции культивировали аполитичность (например, кадровые офицеры)[5]. Да и политизированные современники порой не находили нужных слов для описания непривычной и быстро меняющейся реальности.
Приведенные примеры дают представление о той сложной ситуации, в которой оказались бывшие подданные царя, становившиеся гражданами новой России. В трудном положении были и политики разного ранга: их послания содержали термины, которые требовали надлежащего «перевода» (это привело к появлению множества «политических словарей», востребованных читателями). Монархия могла вызывать разные чувства, но она была привычна и, казалось бы, понятна. Язык описания царской власти, образцы отношения к человеку, воплощающему собой верховную власть, даже набор тех эмоций, которые должен был вызывать верховный носитель такой власти, – все это было знакомо, разными способами передавалось из поколения в поколение.
Свержение монархии требовало от граждан новой России поиска новых слов, новых ритуалов, новых предписываемых политических эмоций. Как обеспечивается легитимность и сакральность новой власти? Как следует обращаться к политическим лидерам? До какой степени можно иронизировать по поводу власти и ее носителей? Эти вопросы требовали ответа. Роль творцов нового языка пытались брать на себя различные партии и организации. Процесс создания новых слов, ритуалов, символов проходил в условиях острой борьбы за власть, конкурирующие силы обосновывали собственное право на разработку авторитетного, «правильного» политического языка и его интерпретацию.
Все это имеет непосредственное отношение к узловым проблемам изучения революций. Мало кто спорит с тем, что основным вопросом всякой революции является вопрос о власти. И все же это утверждение следует признать не вполне точным: вопрос о власти всегда находится в центре любых политических процессов, поэтому уместнее говорить о специфическом состоянии власти в эпохи революций, которое отличается от властвования в иные, нереволюционные времена.
М. Вебер в работе «Политика как призвание и профессия» – написанной в 1918 году, под воздействием революционных потрясений того времени, – цитировал Л. Троцкого, который заявлял: «Всякое государство основано на насилии». Ученый и сам описывал государство как сообщество, успешно претендующее «на монополию легитимного физического насилия»: «…единственным источником “права” на насилие считается государство»[6].
Если использовать формулировки Вебера, то революцию можно рассматривать как особую политическую ситуацию, при которой существовавшая ранее государственная «монополия легитимного физического насилия» постоянно подвергается вызовам. Подобные процессы демонополизации и ремонополизации права на насилие сопровождаются и соответствующими процессами делегитимации и легитимации этого права. Важнейший вопрос любой революции – это вопрос о легитимации насилия. Соответственно, перед историками революции встает задача изучить политические тактики легитимации и ее культурные формы.
Вебер выделяет три базовых основания легитимности (в политической реальности ни одно из них не существует в чистом виде): авторитет традиции (авторитет «вечно вчерашнего» – например, основанный на религиозной традиции); авторитет внеобыденного, незаурядного личного дара вождя (авторитет харизмы); наконец, авторитет легального установления (рационально обоснованной законности)[7].
Различные революции по-разному определяли свое отношение к традиции. Вожди «великого мятежа» в Англии XVII века, как известно, оформляли свои политические идеи с помощью языка религии и говорили о возвращении к «прерванной», «извращенной» традиции, которую следовало восстановить, возродить, устранив позднейшие нарушения. Это проявилось и в раннем значении слова «революция», взятого из языка астрономии и астрологии: возвращение к «изначальному» состоянию[8]. Многим другим революциям, напротив, была присуща установка на абсолютную новизну: революционеры декларировали создание совершенно «нового мира», отличного от «старого порядка». В ходе Российской революции доминировала тенденция, требующая радикального разрыва с эпохой «старого режима», именно решительное преодоление прошлого было важным ресурсом легитимации для революционеров.
Авторитет рационально обоснованной законности подвергается в условиях революций вызовам: под вопрос ставится монополия государства на правотворчество и применение права, могут возникнуть несколько конкурирующих правовых систем. Это было присуще и Российской революции, когда Временное правительство, Петроградский Совет, Украинская центральная рада и другие властные структуры разного уровня создавали собственные правовые пространства, а различные общественные организации поддерживали и инициировали «народное правотворчество» снизу и таким образом обосновывали свою легитимность[9].
Для исследования феномена власти в условиях революций следует всесторонне изучать авторитет лидеров, вождей, обладателей харизмы, которые подтверждают его своими особенными действиями – сбывающимися пророчествами, героическими поступками, необычайными успехами. Харизма основывается не только на качествах лидера – действительных или приписываемых ему, но и на символической репрезентации сообщества, которое признает за вождем дар харизмы, легитимирующий его действия; поэтому историка должны интересовать поступки и слова людей, разными способами творящих авторитет вождя. Изучение методов и тактик легитимации лидеров, анализ сопутствующих политических конфликтов представляют важнейшую задачу для историков революции, поскольку помогают лучше понять те социально-политические процессы, которые были связаны с конструированием образов вождей.
Для российской истории ХХ века эта тема представляет особый интерес и особую значимость. Культ личности, культ вождей, без которого невозможно представить советскую историю, уже давно стал предметом специальных исследований. Более всего изучен культ Ленина (см. работы Н. Тумаркин, Б. Эннкера, О. В. Великановой и др.)[10]. Однако историки, изучая ключевые этапы формирования культа Ленина – покушение 1918 года, пятидесятилетний юбилей вождя в 1920 году, смерть, бальзамирование, – крайне бегло описывают период 1917 года, хотя именно этот период политической борьбы имел большое значение для складывания культурных форм восприятия харизматических вождей и их репрезентаций. Для достижения целей настоящего исследования полезен подход Б. Эннкера. Изучая превращение харизмы вождя в его культ, этот автор связывает создание культа с актуальными политическими задачами, которые ставили перед собой разные группы большевистских руководителей в новой политической ситуации. Культу личности Сталина посвящена работа Я. Плампера, изучающего изображения вождя[11]. Тем не менее – повторюсь – представляется, что исследователи культов советских вождей недооценивают значение культурно-политических процессов 1917 года для складывания политической культуры советского периода.
В настоящем исследовании предметом изучения будет «культ Керенского» – тактики укрепления и ниспровержения его авторитета, культурные формы репрезентации этого политика и их восприятие. Соответственно, рассматриваются тексты и визуальные образы, символические жесты и ритуалы, с помощью которых создавались разнообразные, порой противостоящие друг другу образы вождя. Выбор объекта исследования обусловлен тем авторитетом, которым этот политик первоначально обладал. На связь между поклонением Керенскому и культами советских вождей указывали участники тех событий. Видный деятель конституционно-демократической партии В. А. Маклаков впоследствии утверждал, что после свержения монархии у обывателя сохранилось «предпочтение личной власти, Хозяина» и многие жители революционной страны ориентировались не на авторитет политических институтов, а на личный авторитет лидеров. Мемуарист отмечал: «На этом чувстве было заложено поклонение Керенскому, потом Ленину, а в конце обоготворение Сталина. Не хочу сравнивать этих людей, столь несхожих по духу, но во всех режимах, которые друг друга сменяли после 1917 года, скрывалось привычное искание властной личности и недостаток доверия к “учреждениям”»[12].
Утверждение Маклакова, повторявшееся в разных вариациях и другими авторами, сложно подкрепить доказательствами, однако мысль о преемственности отношения к политическим лидерам представляется интересной. Для многих современников Александр Федорович Керенский был центральной фигурой Февраля, именно он олицетворял для них свершившийся переворот. Уже в конце 1917 года оппоненты Керенского говорили о «восьми месяцах» его правления[13]. Речь шла обо всем периоде революции – с марта по октябрь, хотя Керенский стал министром-председателем лишь в июле.
В настоящем исследовании для понимания культурных форм репрезентации политика изучаются различные «образы» Керенского, создававшиеся им самим, его сторонниками и союзниками, его оппонентами и врагами. Под «образами» понимаются обладающие некоторой семантической общностью комплексы характеристик вождя, которые давались ему в разных текстах и изображениях.
Данное исследование посвящено прежде всего политической культуре революции, оно не претендует на создание новой биографии Керенского. Эта книга – не о политическом лидере, а о его культе. Разумеется, не следует противопоставлять биографию политика культурным формам его прославления. Да, предлагаемый подход позволит, как мне представляется, по-новому взглянуть на Керенского, и можно надеяться, что новые его биографы смогут использовать мои наблюдения и выводы. Но все-таки главной целью книги уточнение жизнеописания Керенского не является – через различные образы лидера, через случаи их создания и использования я пытаюсь посмотреть на те организации, на тех людей, которые их, эти образы, создавали, стремлюсь взглянуть через них на политические, культурные и социальные процессы эпохи революции.
Можно согласиться с тем, что Керенскому «не повезло» с историографией: немногие из исследователей сочувственно описывали «революционного министра». Это неудивительно: и по сей день историки нередко отождествляют себя с одними участниками революции и противопоставляют другим. Поэтому историография 1917 года в массе своей продолжает быть «партийной», часто исследователи (и тем более читатели) искренне полагают, что историография не может (и не должна) быть иной. Недаром и ныне в ходу разные варианты либеральных и консервативных, социалистических и коммунистических, националистических и имперских, «красных» и «белых» историй революции; востребованы исторические повествования, восходящие к мемуарам участников событий. Порой можно говорить даже о «партийности второй степени» – когда историки-антикоммунисты воспроизводят структуру советского исторического нарратива, лишь меняя знак оценки на противоположный.
С Керенским же сейчас мало кто себя отождествляет. Он, как мы увидим, формально примыкая к эсерам, не связывал себя с какой-либо одной партией, пытаясь играть роль «объединителя», «моста» между умеренными социалистами и либералами. Подобное лавирование первоначально приносило ему успех, но к Октябрю разногласия между партнерами по коалиции усилились, база поддержки Керенского сузилась и ослабла, а его возможности для маневра становились все более ограниченными, ни одна из ведущих политических сил в это время не выражала ему безусловного одобрения. Напротив, чуть ли не все основные силы – хотя в разной степени и в разной форме – критиковали его осенью 1917 года. Это сказывалось и сказывается на отношении к нему нескольких поколений «партийных» историков, «наследников» политических оппонентов Керенского: он не воспринимался и не воспринимается как «свой», с ним не отождествляют себя участники нынешних политических баталий.
Керенскому не повезло и с его собственными автобиографиями, предварявшими жизнеописания, которые были созданы другими авторами, и влиявшими на них. В 1918 году бывший глава Временного правительства издал брошюру «Дело Корнилова», а позднее опубликовал несколько вариантов автобиографии, в которых создавал и вновь переписывал свою версию истории революции[14]. Постоянным в этих текстах, написанных в разные эпохи, оставалось одно: Керенский желал прославить Февральскую революцию и увековечить свою роль в ней; однако аргументация автора менялась, со временем он корректировал и модернизировал свое повествование. По сравнению с тем лидером, каким он был в 1917 году, Керенский представлял себя более современным, более западным, более рассудительным, дальновидным и уверенным. И, добавим, менее интересным. Серия созданных им парадных автопортретов, идеализирующих и романтизирующих их творца, заслонила живое изображение жесткого и своеобразного политика, который вовсе не случайно – вопреки мнению многих современников и части историков – оказался во главе правительства в эпоху революции.
Искажение истории в автобиографиях Керенского, которые можно назвать «автоагиографиями», вернулось к их автору своеобразным бумерангом: исследователи, негативно относившиеся к «вождю», отталкивались от его воспоминаний; полемизируя с политиком, они порой воспроизводили структуру его повествования; делая из его автопортретов снижающую карикатуру, они сохраняли их композицию. Влияние мемуарно-исследовательского проекта Керенского на историографию революции невозможно отрицать. И все же вряд ли именно такой эффект соответствовал замыслам самого автора.
Многие историки, писавшие о революции, касались различных аспектов деятельности Керенского. Ограничусь лишь перечислением части работ, непосредственно ему посвященных. Цензурные обстоятельства советского времени затрудняли появление объективных исследований, но и в этой ситуации В. И. Старцев смог подготовить важную работу о кризисе осени 1917 года[15]. Г. Л. Соболев в новаторском для своего времени исследовании изучал революционное сознание рабочих и солдат[16]. В связи с этим он рассмотрел и некоторые аспекты популярности Керенского, и некоторые характерные черты той социально-психологической атмосферы, в которой появился и развивался культ вождя.
И по сей день наиболее обстоятельным жизнеописанием Керенского является книга британского исследователя Р. Эбрахама, опубликованная еще в 1987 году[17]. Автор не мог в те времена работать в российских архивах, но он внимательно изучил прессу эпохи, работал в архивах нескольких стран, опрашивал людей, лично знавших Керенского.
Перестройка сделала возможным углубленное изучение биографии Керенского в России: доступными стали новые источники, были сняты цензурные запреты. Заслуженный интерес читателей еще в советское время привлекли работы Г. З. Иоффе, который использовал новые интересные источники. Гласность позволила обратиться к иному типу исследования, и одну из своих книг этот автор посвятил трем лидерам: Керенскому, Корнилову, Ленину[18]
О проекте
О подписке
Другие проекты