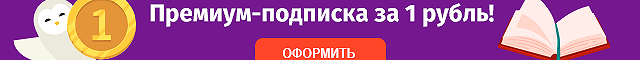
Любое описание экономики – прежде всего действие, совершаемое в рамках культуры, продукт этой самой культуры. Как таковое оно является частью экономической деятельности и само подчинено экономической логике: любая систематизация экономики – это торговля, это достижение договоренности. Невозможно выйти из-под влияния экономики, описать или постичь ее со стороны как замкнутую систему. Мечта о систематическом описании и постижении экономики вдохновляла почти все утопии Нового времени и была идеологической основой всех современных тоталитарных режимов. Кажется, ныне от этой мечты уже отказались. Критика экономики становится таким же объектом экономических отношений, как и апология экономики, и ее интерпретация, и ее научное обоснование. Если все мы подчинены законам и требованиям экономики, то это не означает, что мы сможем постичь эти законы, если дистанцируемся от экономических требований и посмотрим на них со стороны. Подобной сторонней перспективы нам не дано. Единственная возможность понять экономические процессы состоит в том, чтобы активно принимать в них участие. Только если мы будем совершать инновации, оставаясь в русле экономических требований, мы сумеем понять, в чем эти требования заключаются. Ведь часто инновацией оказывается нечто совершенно иное, чем нам казалось изначально. В этом смысле культурная инновация, вероятно, является лучшим способом познания экономической логики, поскольку она, как правило, является наиболее последовательной, продуманной и явно выраженной инновацией.
Как область действия экономической логики, культуру со свойственной ей динамикой и инновационным потенциалом трудно превзойти. В этом смысле признание того, что культура основывается на экономической логике, ничуть не означает редукционистского понимания самой культуры. Ведь в этом случае она понимается не как надстройка, не как внешнее выражение скрытых экономических закономерностей, которые могут быть извлечены на свет божий и научно описаны, как, например, полагает марксизм. Подобное редукционистское понимание культуры следует прежде всего из редукционистского понимания экономики. Экономическая логика проявляет себя также – хотя и весьма специфическим образом – в логике культуры. Именно поэтому культура столь же неизбежна, сколь неизбежна и экономика. Таким образом, экономика культуры – вовсе не описание культуры как манифестации определенных внекультурных экономических процессов, но попытка осознать логику культурного развития как экономическую логику переоценки ценностей.
Надо отметить, что экономика в приведенном выше значении вовсе не синоним рынка. Экономика древнее и более всеобъемлюща, чем рынок. Сам же рынок – всего-навсего специфическая инновативная форма экономики и поэтому может, в свою очередь, рассматриваться в качестве источника инноваций лишь с определенными оговорками. Экономику жертвы, растраты, насилия и завоевания следует учитывать здесь в той же мере, что и экономику товарообмена[10]. В дальнейшем будет предпринята попытка охарактеризовать некоторые значимые ориентиры и стратегии экономики культуры, то есть экономики переоценки культурных ценностей. Эти описания не образуют единой замкнутой системы, но, напротив, направлены против замкнутых систем описания скрытых и внекультурных факторов.
Если описывать теорию и искусство прежде всего как способы обращения с культурными ценностями, это, разумеется, не будет означать, что их содержание полностью исчерпывается некой конкретной экономической логикой инновации. Каждый теоретик и каждый художник охватывает в своих произведениях разнообразнейшие проблемы своего времени, общие для всего человечества вопросы или свои глубоко личные обстоятельства, обсессии, идиосинкразии, которые позволяют трактовать его произведения самым различным образом, но никогда не дают возможности вынести о них окончательного суждения. Перечисленные свойства произведений культуры не обосновывают ценности этих произведений, то есть они не являются причиной того, что эти произведения становятся предметами нашего рассмотрения. Любые произведения мышления или искусства оправдывают подобные изыскания и умозаключения, поскольку всегда содержат в себе личные, общественные, теоретически либо художественно значимые элементы. Но интерес исследователя неизменно сосредотачивается на отдельных выдающихся произведениях, при том что невозможно было бы доказать, что по своему содержанию они важнее всех остальных. Таким образом, перед нами встает главный вопрос:
На чем основывается ценность произведения культуры?
Можно сказать, что произведение искусства ценно тогда, когда оно успешно следует признаваемой ценной художественной традиции. Новое произведение искусства, чтобы считаться ценным, в таком случае подгоняется под определенные критерии, создается по определенным образцам. То же распространяется и на теоретическую мысль: теоретический труд, чтобы быть воспринятым и признанным как таковой, должен встраиваться в задающую ценность традицию, быть выстроенным логически, написанным определенным языком, снабженным комментариями.
Но в чем состоит ценность произведения, порывающего с традицией?
Традиционный ответ на этот вопрос звучал бы следующим образом: в том, что подобные инновационные произведения основываются не на культурной традиции, а на внекультурной действительности. На первый взгляд, ответ весьма разумный. Ведь если делить мир на культуру и действительность, тогда то, что не похоже на культуру, должно оказаться действительностью. Внешние критерии формы, риторики, соответствия нормам культурной традиции в таком случае замещаются критериями истинности или осмысленности, то есть отсылкой к скрытой за культурными условностями внекультурной реальности. И произведение искусства или теоретической мысли будет оцениваться уже не с позиций соответствия культурной традиции, а с точки зрения его соотнесенности с внекультурной реальностью.
Но в этом кроется амбивалентность, по ходу истории все чаще заставлявшая усомниться в понятии истинности. Чтобы иметь возможность обозначить, представить, описать, провозгласить внекультурную реальность, необходимо, чтобы произведение культуры от этой реальности в чем-то отличалось. Эта дистанция между произведением и реальностью, которая обозначает принадлежность произведения к области культуры, является необходимым условием его соответствия внекультурной реальности, свидетельствующего об истинности данного произведения. Следовательно, ценность оригинального, инновационного произведения культуры все еще преимущественно определяется его отношением к культурной традиции – даже тогда, когда отклонение от этой традиции оправдывается указанием на его истинность и соотнесенность с реальностью.
Искусство Нового времени, по крайней мере с наступлением эпохи Возрождения порвавшее с прежней традицией ради истинного, миметически адекватного отражения действительности, к XX веку дистанцировалось и от точного воспроизведения внешней реальности, поскольку и оно уже вошло в разряд культурных условностей. Если искусство авангарда многими еще истолковывалось как отражение внутренней, скрытой реальности, как продолжение поисков истины, то введение в контекст искусства практики редимейда, то есть прямых цитат из внекультурной действительности, используемых в художественной традиции со времен Марселя Дюшана, поставило понятие истины под вопрос. Когда произведение искусства столь непосредственно цитирует реальность, то его истинность получает весьма тривиальное обоснование: ведь его соответствие внешней действительности не может быть подвергнуто никаким сомнениям. Соотнесенность с действительностью в таком случае релятивирует различие между произведением искусства, освещающим действительность с привилегированных позиций, и простым элементом реальной действительности. Вопрос о ценности произведения искусства, следовательно, остается вопросом об отношении произведения к традиции и к другим произведениям культуры.
Так же, как и искусство XX века, различные модернистские и прежде всего постмодернистские теории ставят во главу угла бессознательное. Тем самым они ищут способы заявить о чем-то скрытом, что не может быть поименовано, с чем нельзя состоять в отношениях истинности. В то время как ранние теории бессознательного еще претендовали на то, чтобы понимать бессознательное как еще не помысленное, в постмодернистских теориях речь идет о немыслимом, радикально Другом, непостижимом. Но если более невозможно адекватно теоретически описать внекультурную и бессознательную действительность, поскольку она не поддается никакому подобному описанию, то исчезает и основополагающее различие между языком теоретическим и не-теоретическим: Другое становится в равной степени недоступным для любого языка. В теоретических текстах постмодерна в самом деле используются языковые формы, также функционирующие как своего рода реди-мейды – как прямые цитаты из реального бытования сознания, не сформированного и не подчиненного логическим нормам. Здесь вновь возникает вопрос о ценности подобных теоретических текстов, которые, перестав претендовать на истинность, могут быть оценены лишь в контексте других теоретических текстов. Соответственно, ни инновационное искусство, ни инновационная теория не могут быть изучены и оправданы в своем сигнификативном отношении к действительности – или, что по сути то же самое, в своей истинности. Так что вопрос не в том, истинны они или нет, но только в том, ценны ли они с точки зрения культуры. Чтобы на него ответить, необходимо вернуться к исходной позиции, из которой и проистекал вопрос об истинности как отношении к внекультурной реальности. Реальность является лишь дополнением к культурной традиции: реально то, что не является культурой. Действительность профанна, тогда как культурная традиция – нормативна. Поэтому новое произведение, не соответствующее культурным образцам, признается действительным. Эффект «действительности», или «истинности», произведения культуры, таким образом, создается за счет его специфического отношения к традиции.
А именно: инновация суть акт негативного следования культурной традиции.
Позитивное следование традиции состоит в том, чтобы создавать новое произведение по аналогии с традиционными образцами. Негативное следование – в том, чтобы создавать новое произведение вопреки традиционным образцам, по контрасту с ними. В любом случае новое произведение оказывается в определенных отношениях с традицией – неважно, в положительных или отрицательных. Обыденность, или внекультурная реальность, в обоих случаях фигурирует только как материал. Отступление от образцов, содержащихся в культурной традиции, изменяет обыденное в не меньшей степени, чем подчинение обыденного указанной традиции. Когда обыденное вводится в культурный контекст, оно очищается от всего того, что делает его «в реальности» похожим на традиционные образцы. Реди-мейды всегда кажутся более обыденными и более реальными, чем сама реальность[11] Главным критерием при оценке ценности произведения культуры становится, таким образом, его отношение к культурной традиции, степень успешности его положительного или отрицательного следования этой традиции. Обращение к внекультурной реальности является лишь историческим этапом негативного следования и само по себе ориентировано на образцы, содержащиеся в культурной традиции.
Поэтому в дальнейшем искусство станет отправной точкой нашего рассуждения. Ибо суть этого рассуждения заключается не в вопросах «Что есть?» или «Что есть истина?», обращенных к природе, действительности, реальности, но в вопросе о том, как следует создавать произведение искусства или теоретической мысли, чтобы оно обрело культурную ценность. Существуют теории, сосредоточенные вокруг бессознательного, не поддающегося ни описанию, ни толкованию; существуют также и произведения искусства, не допускающие понимания истинности как миметического, подражательного отношения к реальности в каком бы то ни было смысле – но при этом по-прежнему обладающие культурной ценностью. Кроме того, эти произведения не могут быть игнорируемы лишь потому, что кто-то с ними не согласен или не считает их произведениями искусства. Само их присутствие в культуре вынуждает заново исследовать механизмы культурного производства.
В остальном же вопрос о ценности произведения, возможно, даже древнее вопроса об истине как об отношении произведения к действительности. Вопрос об истинности происходит из протеста против традиции – протеста, который изначально востребован этой традицией. Именно это требование придает любому конкретному протесту культурную ценность. И только когда конкретное произведение обретает культурную ценность, оно начинает представлять важность и интерес для истолкования – а не наоборот. Посредством инновации и возникающей из нее культурной ценности теоретик или художник обретает право представить обществу свои персональные, обыденные, «реальные» проблемы. Проблемами других людей общество интересуется в меньшей степени или не интересуется вообще, несмотря на то что они могут оказаться не менее важными или в той же мере не терпящими отлагательства. Каждое произведение культуры производит переоценку ценностей. Эта переоценка, в свою очередь, повышает ценность реальной, обыденной личности автора[12]. Поэтому нас в первую очередь будет интересовать экономическая и культурная логика переоценки культурных ценностей, поскольку только она создает предпосылки для рассмотрения действительности и постановки вопроса об истине как об отношении к действительности.
О проекте
О подписке
