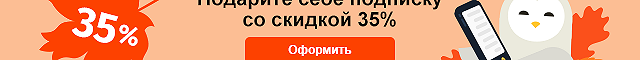
– Значит, неплохо? Тебе понравилось? – спросил он вдруг почти жалобно, ско сив глаза в сторону бумаг, несколько в беспорядке брошенных Левушкой на стол, – брат уже покидал комнату.
– Ты, Моцарт, Бог – и сам того не знаешь!.. – сказал Лев насмешливо и не без важности. Как-никак, его спрашивали всерьез, как взрослого. И волновались его мнением.
– Откуда это?.. – спросил Александр, понизив тон, почти с испугом.
– Не знаю. Сказалось!.. А что такое?..
– Ничего. Строка!..
Лев приблизил лицо чуть не вплотную к его хмурым бакенбардам:
– Даже страшно, увы! когда-нибудь можно будет гордиться. Что ходил с то бой на один ночной горшок!..
Оставшись без него, Александр поулыбался его мыслям некоторое время. «Ты, Моцарт, Бог – и сам того не знаешь!» – повторил он про себя. Строка, строка!.. Надо будет записать!
Потом почему-то снова вспомнил Тригорское. На языке был вкус котлет. Он был не избалован блюдами… Из деликатесов он любил только красную или паюсную, нет, конечно, еще устриц, обрызнутых лимоном, к коим пристрастился в Одессе. Как хорошо!.. Вообще-то трудно было стать гастрономом, выросши в доме Надежды Осиповны. Здесь скудно кормили. Как в трактире. Как сказал ему Раевский? «У вас трактирный вкус!» Кажется, он имел в виду не только гастрономию – но еще литературу. Забавно. Одни говорят – «Байрон», другие – «трактирный вкус». В самом деле! Он много ездил. То в кибитке, то верхом… И у него был трактирный вкус. Простые блюда: ботвиньи, котлеты… Почему в России, – в трактирах, так много пьют?.. Чтоб отбивать запах еды. Чтоб не замечать – как одно образно и скучно кормят. Трактирный вкус!..
Он сунул руку к шандалу и снова оглядел перстень. Под свечой – он стал светлей, иссиня-зеленый, почти голубой. Какой это – камень? Он не знал – и не решился спросить в тот момент. А теперь… теперь и не расспросить. Когда? Когда мы свидимся?.. За окнами совсем стемнело, и камень стал цвета волны, цвета волн, цвета любви. Одесса, жизнь, смерть… И ничего-то более не надо! Перед ним плыли виденные им нынче девичьи лица, одно лучше другого, вроде… Но ни одно не по казалось ему важным, способным занять какое-то место в его жизни. Он вспомнил хмурую девочку, которая сделала предложение ему… Смешно? А что, собственно, смешного? Он как-то умудрился занять собой детскую душу. Почему мы задеваем походя столько душ, которые нам далеки?.. а самых ближних, любимых?.. Может, правда, подождать? Весьма вероятно, его невеста – сейчас еще ребенок. Или только родилась, или делает первые шаги…
«Выше Чильд-Гарольда…» У него есть младший брат – уже взрослый. Родственная душа. И который понимает его! Он уснул – в предчувствии какой-то трепетной и легкой мысли.
IV
В те унылые иль, напротив – в те прекрасные времена, увидеть ножки молодой и прекрасной женщины – если вы, конечно, не состоите с ней в интимной связи – выше щиколоток и даже (о, блаженство!) до середины нежных икр – а может статься, и… (о, чудо!) – до самой строгой черточки подколенья – можно было лишь на пляже, когда ей вздумается играть с волнами. Это была любимая игра молодых женщин и девушек, которую свет им прощал или, скажем так, более робко – не осуждал… Игра состояла в беготне по кромке берега – у самой воды, когда начинался прибой, – и нужно было отбежать, отступить – покуда вода лишь обрызнула слегка – но не коснулась ступней, едва дохнула на непривычно голую кожу. В этой игре было особое изящество – как бы кокетство с прибоем – и нужно было, чтоб прибой – был тоже легкий.
Кабинки на пляже были редки, но там можно было разуться, снять чулки и оставить туфли… (Не более, что вы, не боле! Не дай Бог! Купание светских женщин проходило в закрытых купальнях, только для семьи, и то… Для женщин отдельно, для мужчин отдельно – а женский купальный костюм напоминал закрытостью рыцарские латы.) Женщина покидала кабинку и выходила на свет босой – что само по себе было уже дерзостью, и гладкие ступни соприкасались с горячим в меру и колким песком, что придавало походке особую осторожность и плавность. Дама спускалась к воде и здесь, как бы только перед лицом прибоя, в ожидании волны чуть поднимала юбки, уже не думая о любопытных, жаждущих или восхищенных взорах, какие могут быть со стороны – или наоборот, втайне рассчитывая на них, но так, чтоб умысел был во все не заметен. Вдоль пляжа, дальше от воды тянулся ряд шезлонгов, где было тоже много женщин – под яркими цветными зонтами, и эти женщины разного возрасту – то ли в задумчивости, то ли в зависти, то ли в осуждении, из-под своих зонтов наблюдали за этой рискованной игрой – и за теми смелыми (или наглыми, или распутными – все зависит от точки зрения) – кто вел ее… Молодые люди, если были с дамами, старались не смотреть в ту сторону – но когда взор нечаянно, скользнув по песку, подбирался к самой воде… Те, что постарше, были откровенней – а что им делать? – и постоянно, что называется, бросали взгляды, которые будто застревали на пути, забывшись. Их увядшие жены при этом отворачивались и смотрели куда-то поверх – чаще делая вид, что не понимают, что тут такого интересного – или мрачно фыркали, зря подобное падение нравов, – не только той, что так изящно, в отдалении, вступала в единоборство с волной – но и своего спутника жизни (обидно! уж она-то знала его, чего он стоит, прости мя Господи!) – который вместе с мужеским бессилием обрел невыносимую похотливость.
За длинным рядом шезлонгов помещались еще места для зрителей – только, так сказать – ненумерованные, разбросанные по пляжу. Там были кучки гимназистов, которые, нежданно прекратив возню – остолбеневали с раскрытыми ртами, не стесняясь друг друга – и выражая сей миг единственное желание: скорее стать взрослыми. И прыщавые юноши архивны, застенчивые онанисты, просто страстные хотимчики – молодые чиновники из управления краем, – продолжая притворяться, что длят некий деловой разговор, сами начинали путаться в словах и краснели – оттого, что нельзя было просто так остановить вселенную и прервать беседу и, не скрывая, впериться взглядом, слишком земным, в нечто неземное… (Кстати, слово «хотимчик» изобрел некто, кому суждено занять весьма заметное место в нашем повествовании.) И молодые офицеры всех родов войск, и офицерики, и юнкеры, мечтающие стать ими, – единственные, кто в эти минуты делал вид, что ничего такого не происходит, – лениво и высокомерно прогуливались в этот час вдоль пляжа, – и у них под усиками, усами или усищами пряталась невозможная улыбка – «то ли мы еще видели», но… «а впрочем – ничего, право, ничего!.. Ох-ти!» (вздох). Они, единственные, кто были свободны – или мнились себе таковыми – и надеялись, что пора чрезмерных условностей проходит, вот уж скоро пройдет… недаром они живут в век, когда маленький артиллерийский лейтенант совсем не давно, вспомним – прошел с боями пол-Европы как французский император, и старые гордячки – европейские столицы – смиренно, на блюде, одна за другой вы носили ему ключи…
Дети бегали по пляжу, их матери – чаще няньки и мамушки – старались удержать их в той части берега, где песок еще не успел намокнуть от волн (легко простудиться), но тщетно. Тщетно… их так и несло, на этот притемненный близостью моря передний край… чего? жизни?..
А безумная женщина с прекрасными обнаженными ногами вставала над пляжем, над миром, возносилась – как знак судьбы. Мир был прекрасен, солнце сияло, улыбался берег… (Было начало предвечерья, время прилива, и легкий бриз, точно смеясь, поигрывал цветными парусами зонтов.)
Ноги были стройны – чуть тонковаты, пожалуй, при таких бедрах… но, впрочем… может, корсет?.. – они были необыкновенно нежны. Воздух пел в них, их гладкая кожа отдавала нездешним теплом и светом – прелестью непреходящей жизни… Кажется, светилось само Бытие: пляж, море солнце – и ноги женщины, сквозь которые течет свет, неизвестно когда и почему озаривший нашу утлую планетишку и сочетавший ее, беспутную, с Богом, чтоб после, когда-нибудь – исчезнуть вместе с ней. Для того, чтоб мы ощутили свет – необходимо, чтоб он освещал нечто – необыкновенно значащее для нас.
«Ах, ножки, ножки, где вы ныне? – Где мнете вешние цветы?..» Куда девалось это все – ноги, песок, земля – по которой они ступали?.. Куда девается? Наш след на земле, на самом деле, куда слабей, чем последнее дыхание на зеркале, которое так быстро истаивает на чьих-то глазах. Которым, впрочем, тоже суждено истаять. Куда девались эти ноги, вызывавшие такое безумное восхищение и такое безудержное желание, которое тащило нас за собой, как плен ников, как данников – на вервии страсти, влекло – куда больше, признаемся, куда мощней – чем даже власть и слава – чем даже искусство!.. Мне сказали как-то о женщине, что была знаменита в теперь уже прошедшем веке тем, что сотрясала сердца: «Боже мой! Эти воспетые поэтами ноги – превратились в колоды!» (Кстати, в колоды превратились, по воспоминаниям – и знаменитые ноги Натальи Николавны Пушкиной, когда она давно уж была Ланской – а первый ее муж давно исчез в могиле.) Что такое жизнь – как не послеполуденный отдых фавна, который зовется Смерть – и который лишь один обречен на бесконечное время?» И теперь это легкое дыхание развеялось в мире…» С годами начинаешь бояться – переулков любви, улиц своего детства и юности, и проходишь быстро-быстро, опасаясь, чтоб кто-нибудь здесь не узнал тебя – а больше, чтоб сам ты не узнал кого-то… Улица течет, обдавая жаром ушедшего и глумясь над тобой сегодняшним блеском… А ты все страшишься: вдруг за поворотом возникнет какая-нибудь Она. Тяжело волоча к неизбежному эти ноги-колоды, те, что снились некогда без разбора – всем без исключенья: юнцам – от одиннадцати лет и до бесконечности, до совсем старости – на этой улице, на других… Сон-явь, сон-явь – оставьте меня с вашим снами! «Что вы все твердите: время проходит! – это вы проходите!» – мудрость, восходящая к царю Соломону – а может, и дальше вглубь? – нашей неказистой, странной, печальной, прекрасной – и слишком всерьез, увы! – воспринимаемой нами жизни на этой жалкой лодчонке, на острове Робинзона, затерянном в океане миров, к которому (утешительная ложь!) – на самом деле, никогда не пристанет ни один корабль вселенной.
Где-то 25-го или 26-го июля 1824 года, 10-го класса Пушкин А. С., чиновник канцелярии генерал-губернатора – шел берегом моря в Одессе и мрачно ругался – про себя, а иногда вслух, как бывало с ним, когда он был уж совсем бешен: – Пошел прочь, дурак! – вскрикивал он вдруг, так, что встречные оборачивались и могли принять за сумасшедшего, или: – Ага! Он ревнует ее – старый пес, он ревнует!.. К счастью, не встретился никто из знакомых. Прохожие удивились бы еще боле, если б узнали – кому адресовалось это все: лично губернатору Новороссийскому и наместнику Бессарабскому – его высокопревосходительству графу Воронцову. Теперь Александр точно знал – его изгоняют из Одессы. Только что Вигель Филипп Филиппыч, который был в доверительных отношениях с наместником, а значит, и с Казначеевым, начальником канцелярии, узнал из первых рук и поведал ему, что разрешение из Петербурга прибыло, приказ подписан – и теперь уж дело дней. Его высылают на Псковщину, в имение родителей. Вигелю он верил – они были дружны, – правда, с Вигелем, в силу некоторых причин, не так-то просто было быть дружным, но… Александр, судя по всему, принадлежал к исключениям. – Наверное, Вигель считал, что молодой человек по-своему сострадает ему, а этот весьма остроумный, изощрившийся в остроумии – правда, более всего на чужой счет, господин (свойство, часто делающее человека скучным донельзя!) – почти не мог скрыть, что нуждается – именно в сочувствии и сострадании. На самом деле, Александру он был, скорей, любопытен – тот просто дивился ему: Вигель был в обществе известен как «тетка», – так чаще называли тогда – то есть, мужеложец, – неспособный даже к браку, что в обществе, надо сказать, не поощрялось. (Там – греши, сколько хочешь и как хочешь, но брак обязан покрывать все!). Правда, Вигель был из тех немногих в этом своем качестве, кто почитал себя несчастным и страдал от себя… и, вместе с тем, с надменностию и сардонически усмехался – давая понять, что, несмотря на трагичность сего обстоятельства – собеседник его или собеседники являют полную неосведомленность в пред мете и какую-то детскую наивность. Александр же – так любил и почитал Женщину вообще – что просто не мог понять, как такому наслаждению можно предпочесть что-то… Несмотря на шестьсотлетнее дворянство, коим он кичился, признаться, к месту и не к месту – Александр был в чем-то очень прост, даже мужиковат – и ничегошеньки не смыслил в поэтике однополой любви… У них даже споры выходили по этому поводу. Вигель узнал еще, что на почте распечатано какое-то его, Александра, письмо, которое показалось властям неблагонамеренным, и, притом, настолько – что было показано государю или кому-то там еще, на самом верху. И теперь его, Александра, планам, которые Вигель знал, – а он по наивности, не скрывал, и не только от Вигеля, – расплеваться с Воронцовым, выйти в отставку, а там застрять в Одессе, предавшись целиком литературе – можно сделать ручкой. Вигель, хоть откровенно (и искренне), в свой черед сопереживал ему, – но, как всякий смертный, кто в данный момент и в данных обстоятельствах – оказался в чем-то выше или удачливей нас, – не обошелся без нотаций: как следует вести себя с сильными мира сего, с тем же Воронцовым. (Во-первых, не называть его, да так, чтоб все слышали – Уоронцовым! – что несомненно докладывают графу – при всей своей аглицкой складке и даже английском либерализме, которыми он славился – как всякий почти российский чиновник, граф призревал стукачей… Не мы придумали этот мир, каков он есть, и не нам дано что-нибудь изменить, почтеннейший Александр Сергеич!).
– Он отослал ее, нарочно, чтоб провернуть это дельце!.. Чтоб все свершилось без нее! При ней бы он не смог!.. И для того, чтоб мы больше не свиделись!..
Эта мысль не только угнетала его, она была ему приятна. Слаб человек! Тщеславие забивает в нем все прочие чувства. Всесильный губернатор, наместник царя (почти наместник Бога) на всем русском юге – вынужден считаться с существованием в своей жизни – и жизни собственной жены – кого? Чиновника 10 класса из собственной канцелярии!.. – Такое могло привести и не только Александра в состояние какой-то возбужденной гордости. Но страх – что он больше не увидит ее…
– Он ревнует, это точно!.. Александр прилаживался к этой мысли. Он ласкал ее и страдал. – Если б только не надо было уезжать!..
Елизавета Ксаверьевна – жена Воронцова уехала – с месяц назад погостить к матери, в Белую Церковь. Она была урожденная графиня Браницкая – и род ее шел от тамошних гетманов – Белая Церковь была их семейным гнездом… Александр мог подумать. что этот отъезд – показавшийся ему, впрочем, еще тогда поспешным, загадочным – как-то связан с его неприятностями.
Может, он догадался, что она меня любит?.. Любит! – Поворот, который за ставил его улыбнуться! Воронцов все понял. Я любим!.. Любим! Он боится, чтоб ему не наставили рога! Он – рогоносец! «И рогоносец величавый – Всегда довольный сам собой…» Грусть и бешенство вдруг сменились улыбкой. Ненадолго, конечно. Он меня высылает, высылает!.. Этот известный всей России либерал состряпал на меня донос!.. Сделал все, чтоб избавиться… И от кого? От любовника собственной жены!.. – Он увлекался, разумеется! Он не был пока любовником Воронцовой, и мало что предвещало, что станет им. Был просто молодой человек, который почитал себя выше – и даже наместника юга – потому что был моложе, и это как бы давало ему право… Подлость Воронцова была в этом случае в некотором смысле приятна ему: как бы избавляла от нравственных обязательств. Хотя, скажем прямо – он был в том возрасте, когда эти обязательства на нас мало влияют. Бешенство – и улыбка. Улыбка и бешенство… Вместе с обидой его грела мысль, что симпатии графини к нему, в какой-то мере, решили его судьбу… «Старый муж, грозный муж – режь меня, жги меня!..»
Может, когда-нибудь он вспомнит эту свою прогулку по пляжу в Одессе – и посокрушается. Может, сам, испытавши ужас бессилия старшего годами перед неким молодым наглецом – поймет, что должен был тогда испытывать другой – которого он сейчас так истово ненавидел, – кто знает? Хотя вряд ли, вряд ли – смена позиций переменяет с неизбежностью – и все наши ощущения.
…и в этот момент он увидел ноги. Те самые – на берегу. – Впрочем, сейчас на них смотрели все. Женщина играла с волнами, как играют с огнем, – и Александр, как ни странно, тотчас узнал ее по ногам, хотя ни разу в жизни не видел их вживе – они всегда были под платьем. Ну, может, разве поворот фигуры… Эта сцена тотчас напомнила ему другую… о ней как-нибудь потом, потому что и Александр, вспомнив (это было, как укол), почти тотчас позабыл – то, другое… Женщина была княгиня Вера. Вяземская, к сожалению – то есть, жена друга. Обстоятельство, которое, увы! (хоть он порой и сожалел!) – значило для него слишком много. Он понял, и до вольно рано, что явился в мир, где все по-настоящему прекрасные женщины уже заняты, и должна начаться война за передел… Но друг, друзья… (Он верил, что друзья готовы – За честь его принять оковы. – Что есть избранные судьбами… – Ну и так далее. Тут он был пурист.) Княгиня недавно приехала в Одессу – была его конфиденткой – и они лишь церемонно прогуливались вдоль пляжа, видались почти ежедневно и были дружны. И все!.. Кстати, Вера Федоровна брала в эти дни и полное участие в тяжких Александровых обстоятельствах. (Не скажем, что княгине Вере после обошлось слишком дорого это ее «свободное падение» на глазах у всего одесского пляжа, выразившееся в омовении безупречно узких лодыжек в морской воде на глазах у восхищенных зрителей – но пару неприятных минут оно ей принесло. Мужу, конечно, доложили, и очень скоро, и он, что называется, заскучал. Он после уверял всех, что сам, беспокоясь о друге-Александре – послал княгиню Веру к нему на юг, дабы как-то помочь юноше среди сгустившихся туч. Более того, он и верил всю жизнь – что все так и было. На самом деле, с женой они поссорились из-за амурных похождений князя, который, несмотря, что был безупречный семьянин, не мог пропустить ни одной юбки – от семнадцати и до сорока… Нет-нет, он верил жене и был почти в убеждении, что она не изменяет ему. – Немногие в свете в та поры могли похвастать подобной уверенностью! И что у нее с Пушкиным ничего не было – и боле того, не могло быть. Но частое общение жены с Александром – там, вдали (о чем она не уставала регулярно уведомлять мужа – была такая игра!) – да еще известие об этом купании на глазах у всего пляжа – невольно привело князя к мысли – что втайне Вера все ж увлеклась там Пушкиным, и может даже, желала его – ну, хотя бы, мгновениями, согретая южным солнцем и жаркими виденьями, и на грани чувств материнско-сестринских – и иных, какие порой, и в самые неподходящие минуты, просыпаются в нас. Князь, по возвращении, сделал ей замечание только вскользь, касательно эпизода с волнами – говоря лишь, разумеется, о примере, какой мать подает детям – а сам впал в мрачность, и несколько времени – неделю или две – в ней пребывал, – уловленный терпкостью бытия и обманностью и несовершенством мира… Он даже попытался писать стихи о превратностях любви, но стихи не шли, князь, хоть и ходил издавна в поэтах (куда раньше Пушкина, ибо был старше), про себя-то понимал, что от природы слишком рационален, – и чаще норовил сбежать от стихов к другой подруге – прозе: точной, благозвучной, но слишком рассудочной. Тут он в России ходил в монтенях и слабо утешался сим. А в стихах… еще были Жуковский, Пушкин, – не обойти, и это раздражало.)
Александр помедлил и сбежал к берегу.
О проекте
О подписке
