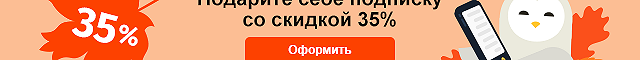
– Не знаю.
– Как так? Вы поэт, писатель – вы должны знать! Скажите откровенно, как мужчина… чего не хватает во мне?
Он вспомнил, как ответил однажды на этот вопрос себе – когда думал о сестре: – Порочности!..
Но ей он сказал: – Милая девочка! Если б это кто-нибудь мог знать! про вас, про меня! про всех… Ответа нет! Ответа не будет.
– А литература?
– Что – литература? А-а… Пытается ответить… но ей не под силу. Чаще всего – ей это не под силу! Но ножки… вы запомните, это богатство. В нашем удручающе поверхностном мире…
Он снова склонился и поцеловал ее в щеку. Она приняла послушно. Щека пылала совсем – только была еще мокрой. Он испугался сперва… но объяснил себе, что дождь висит в воздухе, – и как все мужчины, легко успокоил себя.
Обратно шли той же дорогой и взявшись за руки. Вверх по склону, медленно и со вкусом, говоря о каких-то решительно пустяках и получая от этого удовольствие.
– Помните, как вы с Зизи стали меряться талиями? У вас оказалась почти такая же. Так вот, моя ничуть не толще, объявляю вам со всей ответственностью, г-н поэт!..
– Надо будет померяться! – и смеялись от души. Они снова оказались у дерева – в той же позе, за которой должен был последовать поцелуй.
– Стойте! – вдруг вскричал он. – Я совсем забыл! – и неловко отстранился от нее.
– Что с вами? – попыталась… она.
– Не спрашивайте! – И больше не взглянул на нее. Это было бегством. Она смотрела на него почти с ужасом. (Да просто – с ужасом. Почему – почти?)
– Мне нужно скорей, скорей!.. – повторял, как в лихорадке, – коня! скажите кому-нибудь… Коня!.. (Когда он приезжал, коня его куда-нибудь уводили.)
– Бежите? – сказала она и даже сыскала в себе улыбку: – Бегите!
– Да, нет… Я после объясню. Я… Вы не верите в себя. Это плохо. Кто же будет верить в вас, если не вы? – говорил он отрешенно – а сам смотрел куда-то в сторону и ждал коня. Ему подвели…
– Нет, нет… – говорил он уже в седле. – Не надо! Не думайте! Я после, после… – и конь уже ходил под ним ходуном. – Я потом все объясню!
– Не думайте так! Неправда! – кричал он уже издали, неуверенный – слышит она? не слышит? Дал шпоры и был таков.
А вспомнил он про свое письмо губернатору.
XV
От губернатора не было ответа. Может, не дошло? (Слабая надежда! Такая слабая!) Думает?.. или, может – успел переправить в Петербург? Как он мог забыть? Письмо к губернатору! Он, и правда – не в себе. Совсем ненормальный. Как можно забыть?.. Но губернатор, верно, не забыл. Письмо гуляет в канцеляриях. Потому и нет ответа. Теперь, когда все развеялось и все страхи позади – начинать сызнова со страха… Но он ведь сам писал «прошение на имя» – и недвусмысленно: «да соизволит (государь) перевести меня в одну из своих крепостей»… И все. Крепостей! С крепостью не шутят. Он не создан для крепости! «Жду этой последней милости от ходатайства вашего превосхо…» Ничего себе! Что он наделал? И как ему это взбрело? Взбрело. Бывает. Где письмо? А письмо могло быть теперь где угодно. И даже на столе у государя… В папке: «для решений». Его судьба решалась.
К вечеру он был в Опочке. Почта, конечно, давно закрыта – но кто-нибудь там есть? Все почтари всегда живут при почте. Вдруг не отправлено? Затерялось. (Слабая надежда! Какая слабая!) Он спросил у первого попавшегося мужика – где почта? Мужик ответил непередаваемым жестом – вместе, телом, рукой и головой – жест, который по российским понятиям означал, что почта могла быть где угодно. Александр на коне болтался по Опочке, покуда кто-то еще не показал ему кнутом – туда, и он поехал туда и, в конце концов, – оказался пред домом, где на мокрой доске при входе двуглавый орел был весь огажен прочими птицами, которые возвышались над ним – и живехонькие сидели на крыше – голуби, – и сквозь потеки густого помета (след их существованья) – проступала слабая, как надежда, надпись: «Почтовое ведомство».
Вход был закрыт и столь основательно – что было ощущение, будто он ввек не открывался. Но Александру было надо, и, сойдя с коня и привязав его к изгороди, он отправился на розыски. Путь лежал во двор, заваленный весь сырыми дровами, полурассыпанные поленницы и неукрытые под дождями бревна катились под ноги и свидетельствовали, что хозяин – если и есть, то из рук вон плохой. С внутренней стороны дома была еще одна дверь, она смотрелась не такой уж пришитой к косяку – но тоже была заперта, и он стал стучать и стучал долго, покуда не услышал спасительный кашель… Кто-то кашлял громко и с удовольствием, словно не кашлял – а прочищал горло, как птица… потом едва послышалось: – Какого черта?.. – и незатейливый, но громкий и живой мат счастливо засвидетельствовал чье-то приближение…
Ржавчина замка пропела свою солдатскую песнь, и на пороге вырос мужик, как все – в рубахе с напуском, в портах, босой, но в очках – что было в удивление – и несомненно свидетельствовало чистую профессию – и благородство духа.
– Чего тебе? – спросил он простым хамским тоном, но присмотрелся и добавил: –… барин! В его жилах оставалось еще некое количество кровяных шариков – не одна только сивуха проклятая, счастье наше!
– Почта мне нужна! – сказал Александр.
– Пошта закрыта! – отбарабанил мужик с той радостью, какая бывает у людей, когда они позволили себе не исполнять своей работы. – Вечер на дворе.
– Вижу, что вечер, – сказал Александр и буквально толчком – туловищем – своим впер мужика назад в его комнату.
Под иконкой в углу стыла свеча, и паутинка охватывала икону наискось – с одного боку, так что и лик Божий светился одним только глазом, а другой был в тени. На столе же вообще творилось нечто невообразимое: ошметки, огрызки, объедки… вдобавок две мыши, забравшись на стол и презирая вошедших людей – правили пиршество тела и духа, расположась под пустой на две трети четвертью самогонки, цвета детской мочи…
– Письмо мне нужно, – сказал Александр, – отправил, да нет ответу. Важное. Может, пропало?..
– Может, – кивнул почтарь готовно, – у нас все можно… пропасть – так пропасть! Все можно!
И вдруг… Александр даже не сразу понял, что случилось – почтарь бухнулся в ноги ему – колени так стукнулись об пол, громко – что даже мыши испугались и стали небыстро сползать со стола.
– Прости, – барин! – в глазах почтаря стояли слезы.
– Да что прощать тебе? Мне письмо надобно!
– Виноват, прости! Никак больше недели письмов не отправлял! Грех по путал! Тоска смертная!..
– Не отправлял, говоришь?
– Вот крест! не отправлял!
– Все пил?
– Все пил!.. И себя позабыл, понимашь, и что на место поставлен! Раб-человек! Грешный сосуд! От меня жена ушла к другому!..
– А-а… недавно?..
– Да… недавно-давно… лет пятнадцать уже!..
– И все оплакиваешь?..
– Да нет! Не сказать – чтоб все… а бывает, прихлынет! Как вспомню – пью, а так… в рот не беру! (добросовестно пояснил он).
– Понятно! Так, где письма?..
– Какие?
– Неотправленные… – А-а… сейчас–сейчас! Погоди, барин! И все, главно, в полном порядке! Можешь не сумлеваться. Как же так? Люди ждут, печалуются, может – плачут… Ох-ти! Вины наши несметные! А как пред Богом предстанем?..
– Ну, где? где?..
– Сейчас-сейчас! – почтарь засуетился, поднялся с колен, – надел что-то на ноги – шлепанцы, потом опять снял, мешали ему… он явно трезвел… взял одну свечку целую, потом огрызок свечи. Запалил обе. – Пойдем, барин!..
Толкнул дверь – и они вошли в святая святых – соседнюю комнату, где и была почта.
Она лежала на столе – не соврал – в некотором порядке. Даже сложенная. Аккуратные ряды – четыре, не менее – вдоль стола. И еще два мешка подле, на полу. И одна мышь сосредоточенно грызла мешок с угла…
– Вот и все богатство! – сказал почтарь. – Мыши, вишь, беда! Докучают. Не понимает тварь – что люди ждут весточки от кровинок!.. Эх!.. Ну зачем эта тварь человеку дана – в сопроводители?..
Александр, если честно, был растерян. Перебрать всю груду, а потом еще мешки… Да и мыши…
Он взял одну из свечек у почтаря и подошел сперва к столу. И, не зная, как приступиться – ребром ладони разделил один ряд – где-то посредине. Он и распался – на две части. Письма пали набок – в ту сторону и в эту. И в этом разделенном надвое ряду – первым изнутри было:
Его превосходительству барону Адеркасу Борису Антоновичу, псковскому губернатору. И подпись: Пушкин.
– Ваше, что ль? – спросил почтарь обрадованно.
– Мое!
– Братцы! – запричитал почтарь. – Братцы, люди русские! И почему так получается? Думал человек – письмо пропало, потерял, важное, беда – ан нет, а письмо само идет к нему в руки!
Александр еще взглянул, на всякий случай. Там, где был разъем – одно письмо высунулось и торчало наискосок, углом – как-то боком. Он вытащил его двумя пальцами – сам не зная зачем – и прочел знакомое: «Ф. Ф. Вигель»
– Тоже ваше? – спросил почтарь, все больше трезвея.
– Мое! Спасибо, брат! – сказал Александр, и вытащил кредитку. – На вот! На опохмел!..
– Премного благодарны! – почтарь взял кредитку, на свет даже при свечке рассмотрел – все чин по чину. Чем отличается русский человек? Доверчивостью в смеси с недоверчивостью. Так и живем, стал-быть.
– Может, самогончику по такому случаю, барин? – спросил он заискивающе – провождая Александра назад, к себе в комнату. – Только… беспорядок тут! – То, что он нарек «беспорядком», на самом деле, в русском языке названия не имело.
– Может, с парадного ходу?..
– Нет, не надо! Уж веди – как зашел! – и вышел на крыльцо. – А почту-то отправь, неудобно как-то!..
– Как не отправить, барин, как не отправить… когда люди ждут. Сейчас же, в аккурат! свинья-человек, всякий согласится! Свинья! И все-то он только об себе заботится! Ты об народе подумай!..
– Ладно, ступай в дом – простудишься! – Александр усмехнулся его виду. – Тот стоял пред ним в рубахе навыпуск, босой, переминался – и даже чуть не навытяжку. Дождь начинался. Отвязав коня, Александр еще сколько-то времени вел его в поводу.
Он какое-то время не думал о Вигеле – слишком сильного он избежал крушенья. Письмо Адеркасу у него в кармане! Он иногда запускал руку в карман, за пазуху и убеждался – оно там. Оно! Нет, с крепостью подождем еще, Александр Сергеич! Правда? С крепостью… как-нибудь! Еще не время!.. – и снова трогал письмо. Он вспомнил, как Измайлов – издатель «Благонамеренного» объяснялся с публикой своей – с подписчиками… почему он не выпустил в срок журнала: «Я на праздниках гулял!» Как просто! Гулял! Какое счастье! Он, Александр, родился в стране, где можно даже журнал не выпускать, гуляя… и почту не отправлять неделями… потому, что тоска… и пьется… и жена ушла – бог знает как давно. – Ха! Я на праздниках гулял, гулял – я на праздниках гулял!!..
Он вскочил в седло и помчался в Михайловское – под дождем.
Письмо от Вигеля он распечатал уже дома:
Дорогой мой, незабвенный Александр Сергеич!
Ваш друг Липранди требует, чтобы я отписал к вам – я имел неосторожность поообещать ему, буде я поделился с ним своими сомнениями или наблюдениями – а он уперся: пиши, да пиши! – человек, мол, должен знать, что случилось с ним. Подчиняюсь – не без сомнений. Мы живем в печальном мире – и иногда лучше не знать. Но…
История, случившаяся с Вами, привела меня в отчаянное состояние, но и заставила много что обдумать. Вы знаете мою привязанность и преданность Вам. Для Вас так же не секрет моя близость с графом В. Оттого Ваша с ним ссора была мне ножом по сердцу, мне была дорога Ваша молодая слава – и, вместе, я не мог спокойно глядеть, как одна из наших слав губит другую. Вы и он, он и Вы – были созданы споспешествовать один другому, а оказались по разные стороны на поле брани. Глупость? Случайность? Уезжая, разумеется, Вы изволили во всем винить его, понятно! Ваши вирши, пущеные Вами в свет – были прекрасны – но страшны своей несправедливостью. Потому что перед Вами был тоже – несчастный, уверяю вас – несмотря на положенье свое – обманутый и страдающий человек.
А за Вашею ссорою – теперь мне точно известно – стоял некто, кого я до времени не хотел называть, и которого всегда не переносил, а Вы как раз почему-то избрали его себе в друзья и чуть не путеводители. Умолкаю. Помните, я сказал Вам – если Вы африканец, как Отелло Шекспиров – не страшит ли Вас подле – присутствие Яго?.. Впрочем… Вы все сказали об нем в Вашем стихотворении «Демон» – так, кажется? Вы все изобразили в точности, как поэт – хоть в жизни были на редкость неосмотрительны.
Я недавно узнал правду, и моим первым побуждением было скрыть ее от мира, и от Вас в том числе. Но потом… Я подумал, извините, о Вашей молодости – и еще что опыты, даже отрицательные, скорей способны помочь нам избежать судеб, чем все счастливые эмоции, вместе взятые. Как старший – я обязан Вам помочь, так думалось мне. На эти размышления мои, конечно, наложились увещевания благородного Липранди.
Так, слушайте, мой друг! Вы были обмануты… и, как говорят в простоте – подставлены злому случаю! Все, что дальше я скажу – разумеется, есть предмет величайшей тайны, и взываю к Вашей скромности – хотя и уверен, что есть все основания на нее рассчитывать.
Я не сужу чужих семей. Как не люблю, когда мне ставят в вину или в насмешку – мои привязанности, кои Вам известны. Когда судят семью – ту или иную, мужа или жену – никто ведь не способен знать – каково этим людям друг с другом? Чего им не хватает? что им мешает? Ваш друг Раевский Александр взращен был в известной семье и с детства привык свободно пользоваться ее славой в этом мире – то бишь, славой своего родителя. Но это вовсе не значит, что он сам способен быть славен. Это постепенно источило его завистью – и стремлением вмешаться где можно: принизить великое, испачкать чистое… В этом смысле – и Вы, и граф В. были равно его достойной мишенью…
К сожалению, легкомыслие некоторых особ противоположного полу – помогало ему с успехом свершать задуманное.
Я недавно узнал, что же произошло. Внемлите с достоинством и твердостию! – Существует уж не первый год связь – в прямом и низком смысле между графиней и ее кузеном – г-ном Раевским. Родство и особое отношение матери графини к своему племяннику помогали этой связи существовать довольно долго, у всех на виду, не вызывая никаких кривотолков. Графиня прекрасна и легкомысленна – может, добра, слишком добра… я ей не судья. Но, когда эта связь оказалась под угрозой раскрытия… появились Вы. Вашему другу-демону ничего не стоило убедить графиню, что в ожерелье из ее поклонников Вы как поэт, чье имя все больше на слуху в России – алмаз, способный занять достойное место – может, незамещенное. Вы заняли его – и дальнейшее Вам известно лучше меня. Я не виню графиню – она слишком прекрасна, чуть избалована более, чем нужно, повторюсь, легкомысленна, но… Она согласилась без сомнения с Вашей ролью ширмы – до поры, покуда не пришел черед выставить Вас перед графом как козла отпущения или, как предмет естественной ревности. Я знаю, что Вы любили ее иль любите. Сыщите в себе снисхождение, не вините ее! В сущности, несчастная женщина, ибо быть связанной с такой личностью, как г-н Раевский-сын… Не ведаю, чем Вам отплатили за это – или чем Вас утешили (простите!) – но теперь эта связь с г-ном Раевским развивается, сколько мне известно, свободно – и пока без помех, ей нет причин прерваться, – потому что главный виновник – Вы – впали в немилость, удалены и протчее.
Вспомните, что я Вам говорил – об Афродите-Пандемос, то есть Порочной – и Афродите-Урании, о связи духа! Об сем можно думать и так, и этак – и вовсе не думать – предоставляя все круговращению Небес – в пространстве, где все смертно, кроме них…
Извините меня, если положил в Вашу, возможно, не совсем окрепшую в опытах душу – немножко зрелого дерьма… но уж такова моя доля в этом мире.
Страждущий о Вас и преданный Вам – боле, чем Вы думаете
Ф. Вигель.
«Но, Вигель, пощади мой зад!» Вигель пощадил его зад, но не пощадил его душу…
Странно, ни одной секунды Александр не усомнился, что в письме все правда. (Ну, во-первых, Вигель не стал бы лгать – паче, про жену Воронцова. Он был злоязычен, но не лжив. Из педантства ли, из добродетели – кто знает?) А во-вторых… Было тут какое-то звено… которое он сам Александр прозревал… но слаб человек! Не мог себе признаться.
Он укрылся одеялом с головой и плакал под одеялом. То были первые слезы его взрослой жизни – может, вторые, не более… Никого не надо, ничего не надо. Слезы были – зрелость души. Он становился взрослым.
Он натягивал одеяло на голову, но становилось жарко. Он был в бане кал мыц кой. Кто-то входил – возникал из чада, из дыма и говорил: – Вы – Пушкин? Я – Раевский, Александр…
Но если ты слепую дружбы власть
Употреблял на злобное гоненье…
Раевский, конечно, знал про Люстдорф. Как он спросил тогда? «Вы утешены?..» Александр слишком хорошо знал обоих – и его, и ее, знал не только нравственно – но и… въяве (если б не эти совместные походы его с Раевским в баню!) – чтоб воображение не раскрывало перед ним роскошных гибельных картин.
Но если сам презренной клеветы –
Ты для него невидимым был эхом…
Одолжил. Словно в покрытие карточного долга. Дал на подержание… Впрочем, возможно, он слишком циничен, чтоб его занимали такие вещи! Или слишком равнодушен. «Фаллический бонапартизм»?.. И вновь принимался плакать под своим одеялом.
Но если цепь ему накинул ты
И сонного врагу предал со смехом…
Нет. Он просто слишком плохо думает о мире! Беспощаден к себе, беспощаден к другим… Нет, себя-то он любил. К себе-то он, как раз, пощадлив.
А она? Что она? И что это было с ее стороны? Просто благодарность? Или, все же… Хотелось еще раз увидеть ее. Но, как ни тщился – не смог ничего различить в темноте. Тропинка счастья? Да, тропинка… Голос ее звучал – но ее не было. И плакал снова.
Тогда ступай, не трать пустых речей
Ты осужден последним приговором!..
Утром он не поднялся к завтраку с Ариной. Он стал записывать быстро – еще не зная: стихи это или просто воспоминание. И надписал сверху: «Коварность». Экипаж из Одессы застрял – и так и не доехал до места.
Онегин наверняка убьет Ленского в дуэли. Они несовместимы!..
Он лежал так долго. Может, день, может, два…
Потом пошевелился в постели и сел рывком – сбросил ноги. Весь узкий такой, невысокий, а ноги длинные – почти мальчик.
– Арина, – крикнул он бодро, – Арина! Завтрак!
Тогда, в ноябре, он писал брату Льву, в Петербург:
«Скажи моему гению-хранителю, моему Жуковскому, что, слава Богу, все кончено. Письмо Адеркасу у меня, а я жив и здоров. Что у вас? потоп! ничто проклятому Петербургу! voila une belle ocassion a vos dames de faire bidet.[18] Жаль мне «Цветов» Дельвига; да надолго ли это его задержит в тине петербургской? Что погреба? признаюсь, и по них сердце болит. Не найдется ли между вами Ноя, для насаждения винограда? На святой Руси не штука ходить нагишом, а хамы смеются…
Прощай, душа моя, будь здоров и не напейся пьян, как тот после потопа.
NB. Я очень рад этому потопу, потому что зол»…
Он вряд ли стал бы так подсвистывать происшествию, если б сам был там и видел, что там было… Но… он, и вправду, был зол. А наша неправота – как обратная сторона луны – то есть, нашей правоты. (Уж эта рыжая планета – вечно подсовывает нам метафорику!).
Для того, чтобы стать Онегиным – нужно убить в себе Ленского!..
В метельном феврале, когда истек срок траура в Тригорском – он впервые уснул в баньке на склоне в объятьях… Прасковьи Александровны Осиповой.
Конец Первой книги
О проекте
О подписке