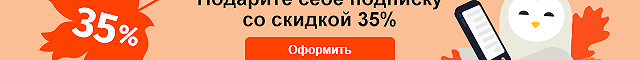
– … бросить быстрый каламбур, и тем совлечь внимание с приезжего сына, который, похоже, пытается обойтись без всяких угрызений совести, – перенесть это вниманье на него самого, отца, показав его роль и значение в этом доме и в мире… Да, если по-честному, у него своих каламбуров никогда и не было. Он всегда их подбирал. Где-нибудь – переносил или разносил… тем и славился: он умел вставить к месту – иногда со ссылкой на источник, иногда без… беда только – где их эти «мо» тут в деревенской глуши возьмешь?.. И, как всегда, когда он не находил, что сказать (а надо бы) – он сидел, как в воду опущенный.
– Это свойство пиитическое! – сказал он, робея. И подумал про себя: не то, не то!..
– Наверно… – согласился Александр. Уж если спорить – то не по поводу Туманского! – Но не удержался: – Я спрашиваю его – где ты видел сады?.. А он лишь улыбается с загадкой!
– Это ваша арзамасская манера – осмеивать все и вся!..
Александр отвел разговор: – Но там красиво, все равно! Море, солнце…
Здесь с тоски можно разбить и собственные яйца. Растекутся по тарелке… Садов нет. Но сады Эпикура?..
Но все-таки возразил: – Вы ж когда-то, papa, дружили с арзамасцами?..
Все было. В самом деле. Он когда-то и стихи писал. Французские. Легко и быстро… В обществе они пользовались успехом. Он когда-то добился и благо склонности Надин – своими французскими стихами. И это старший сын взял от него. Несомненно. Это быстрое перо. Легкость, легкость!.. Неблагодарный!..
Отец попытался вспомнить хоть строчку из своих стихов, но не смог – и схватился за зубочистку. Цыпленок стар. Все старело. И Надин с этой повязкой на лбу вовсе не выглядит прежней Надин…
– Я боюсь, ты скоро соскучишься здесь! Без общества, без итальянской оперы!.. – сказал он уныло.
– Зато не будет – ни саранчи, ни милордов Уоронцовых!
Лев прыснул первый. Ему все смешно. Естественно! Этот всегда так и смотрит на старшего.
– Побойся бога, Александр! Он – славен как военачальник и как преобразователь нашего южного края!..
– Но это не мешает ему быть отпетым мерзавцем!.. (Дело ж не в том, что было в случайной строчке случайного письма! А в том, почему вообще – стали распечатывать мои письма!)
– Я сказал – побойся бога! Я б не хотел слышать это в своем доме!..
– Бога я боюсь!.. Но Бог не подслушивает! Он – не наша свинская почта! (И не корчит из себя милорда и приверженца английских свобод!)
– Ты должен был подумать о нас! Что я? Я – человек старый. Но имя семьи, но Лев, но Ольга… Лев только вступает на поприще. А Ольге м-м… еще предстоит выйти замуж!.. (– Да-с! И кто захочет жениться на сестре санкюлота? – это было под спудом.)
– Я выйду замуж, papa! можете быть спокойны!
– Почему ты так уверена? – спросил отец почти без голоса.
– А у меня красивые ноги!
Мир рушился, впрочем, он уже рухнул. Лев так и зашелся смехом.
– Что ты, Ольга? Ты сошла с ума! Кто так говорит? В присутствии молодых людей?!..
– Но они же – мои братья! – сказала Ольга.
– Papa! вы не должны так волноваться! Мы – другое поколение!.. – это, разумеется, Лев, насмешливо. Они – другое поколение, вы слышали?..
– У нее действительно – красивые ноги, и что особенного? А ежли вы желаете продолжать спорить – то у меня мигрень! – матушка поднялась и величественно вышла из комнаты. Сергей Львович проиграл. Он всегда проигрывал. Мигрень был главный козырь – какой он не мог победить во всю свою жизнь. Жизнь кончалась. Этот цыпленок так и родился старым. Зубочистка?.. А все – Александр! Он там что-то натворил, что-то ужасное… Иначе б его не выслали сюда, под надзор. Могут выслать и далее. Если правда то, что рассказывал Пещуров… В прошедшие царствования высылали целыми семьями. Меншиков в Березове… Это наш государь – либерал! Впрочем, Катенина выслали в костромское имение, и не так давно. Что мы всем семейством будем делать в Березове?.. Или в Болдине? (Где ты, кстати сказать, никогда не был! Говорят, там – нищета, голодные крестьяне. Управитель, которого послали туда – сбежал, на это глядючи… Ты – светский человек. Что такое общество? Это общение с себе подобными. И как бы перехождение – от одного собеседника к другому… В этом перехождении и вся жизнь. Не так?)
…А Александр шел по песку – в Люстдорфе, под Одессой. Неподалеку от тех мест, где скучал Овидий. «Tristia», «Любовные элегии»… «За что страдальцем кончил он – Свой век блестящий и мятежный – В Молдавии, в глуши степей…» Теперь и ему предстояло кончить век в глуши. Только в глуши лесов… За ту самую – «науку страсти нежной». Которую преподал он – или преподали ему? Он не мог сказать с точностью. Она все время звала его по имени, хотя раньше… И ничего такого – мое имя Александр. Моя жизнь смахивала порой на эпиграмму, но потом стала элегией… элегией в духе Коншина… Он станет писать элегии. В элегиях он будет жаловаться…» Как Овидий. «Tristia». «Жалобы»… Ему скажут, возможно: «Никто не жалуется, только вы и Овидий!» Неужто нынче так и не распогодится?
Он был неправ. Он не заметил, как на небе постепенно развидняется. И скучная графика в окне обретает живописность. Малые голландцы, как в Эрмитаже…
– А тебе, Лев, я бы советовал все же – не следовать дурным примерам старших!.. – сказал отец и поднялся от стола. Так завершилась первая семейная трапеза блудного сына по вовзращении…
– Ну, сударь, ждите! Все будет не так просто! – промолвил Лев в интиме и весело подмигнул брату: невыносимая манера младших делать вид, что они знают жизнь! И тотчас, без перехода: – Стихи новые привез?..
(Друзья писали Александру, еще в Кишинев, что этот недоросль шпарит наизусть чуть не все братнины стихи – даже те, коих никто не знает – а, может, и сам брат позабыл – и тем почти славен в обществе.)
После завтрака Лев быстро куда-то исчез – возможно, отправился на сеновал к девкам. Впрочем… в его возрасте…
А Ольга предложила: – Пойдем со мной в Тригорское?.. Там все будут рады тебя видеть!
Александр был не против. Во-первых, выглянуло солнце… Потом еще – он быстро сообразил, что барышни, которых он знал некогда девчонками – с тех пор, верно, выросли… и не совсем безынтересно взглянуть – какими они стали. Женщины продолжали занимать его – и даже несмотря на то, что открылось ему там, как он считал… и что было рождением нового его – какого он еще толком не знал, и к которому не без опаски приглядывался. Все равно. Существовал мир женщин вокруг – они были цветением этого мира, его садами и виноградниками. Его морем и берегом – и волнами нежности, которые накатывали вдруг неведомо откуда – и бесполезно вопрошать, зачем?.. Чего вы хотите от меня? вы – оборотни, солнца, луны?.. Что ставите предо мной – все новые загадки, – беспрестанно открывая мне – то небо, то землю, то землю, то небо?.. То вознося на вершины – недосягаемые, то бросая навзничь, как жалкий прах?
Он сперва оделся в дорожное, потом перерядился во фрак – и отобрал палку по руке – из тех, что привез с юга, потяжеле… Он любил тяжелые палки. Ему доставляло удовольствие именно тяжелые их – вращать на ходу – идучи, беззаботно, переворачивать – то набалдашником книзу, то концом, как положено – и ощущать, что жизнь легка, легче легкого – и остается лишь прожить ее… не растеряв, не растратив чего-то по дороге.
Ольга уже вышла во двор и бродила вокруг клумбы перед крыльцом в ожидании брата. Она была очень мила – под красноватым зонтиком от солнца. Картинка с выставки. Изящная фигурка пред клумбой, полной цветов, солнце и цветной зонт. А Александр покуда отспаривал полотенце у Арины, которой, как всегда, ничего не хотелось выпускать из дому. Она была скуповата. Да и то сказать – жила она в доме, где всегда и во всем были нехватки.
– Мало полотенцев! – говорила она сурово.
– Но я хочу искупаться! – говорил ей Александр.
– И с чего это вдруг? Дождь с утречка. Едва перестал!
– И все равно. Вода уже теплая!
– И вовсе нет, – говорила Арина. – Вы давненько здесь не были!..
Вас Ольга ждет!.. – поторопила она.
– Так полотенце…
– А-а… А сказывали в запрошлом годе вы опять в лихорадке лежали!
Но в конце концов, принесла «полотенец», как она называла. И не какой-нибудь, чуть не из новых. (И где только взяла?). Голубой, длинный, в пухлой вор се… Александр чмокнул ее в щеку и побежал.
– Не бросьте где-нибудь! – крикнула она вслед. Но он уже бежал, с палкой в руке – и перекинув полотенце за спину. Легкий, подвижный, чем-то взволнованный.
Чем, чем?.. Только взявши полотенце, чтоб искупаться в Сороти – он и понял, что вопреки всему (вот тебе, Воронцов! вот! – смачная дуля!) – все-таки, воротился домой!..
Покуда его не было, Ольга раздумывала по-сестрински. Она решила, что лучший выход, если они с Львом – тут на союзничество она рассчитывала само собой – будут чаще уводить Александра из дому. Под любым предлогом… Пока пена сойдет и все ко всему привыкнут. – Она все опасалась отца…
Брат вышел, перекинул палку в левую руку – полотенце свисало на левом плече, – предложил правую ей – и повел церемонно – мимо трех старых сосен, сторожки, небольшой осиновой рощицы – и дале, чуть вверх, к Вороничу. Потом вдруг бросил ее руку и побежал – веселый, шальной, безумный, отбежал сажень на пять – и обратился к ней лицом. А потом она побежала сама и тоже остановилась в нескольких саженях, раскрасневшаяся, в легкой одышке – и, дразня его, закрылась зонтиком от него. Потом он снова отбегал, потом она. Еще и еще… Брат и сестра, мальчики и девочки. Хоть ему уже – под двадцать пять (в то время – немало), ну а ей – и совсем много, барышня, незамужняя – в двадцать семь?.. (Почему ей не везет в жизни? чего ей не хватает?.. – он оглядел ее издали, по-мужски, не смог ответить себе – и душа на секунду сжалась за нее. Она несомненно втайне страдает… Если б он не был ее братом – она бы, наверно, нравилась ему!)
Дорога вилась в траве – иногда превращаясь почти в тропу – иногда расширяясь до большой проселочной; река все оставалась справа, порой вдруг открывалась нежданно и вилась, прихотливая, меж луговых трав, отблескивая черным деревом, как крышка рояля в гостиной в Одессе (опять Одесса!) – иногда вдруг исчезала в траве, как смутная тоска… Солнце к этому времени совсем уж растопило лучами льдинки даже самых пустяшных – перистых облачков… и залило собою свод небес – божий мир… с такой полнотой, с такой необоримой естественностью, будто в жизни не бывало – ни дождей, ни снегов, ни осеней, ни зим: одна весна-лето – бездонная глубина, вечность… Храм – и в этой храмине он был свой, деревья уз навали его, любовь упадала к нему с небес и музыка лилась издали, посылаемая ему из-под самого купола. Мир велик, жизнь прекрасна, смерть невероятна…
Незаметно они спустились к озеру. Александр постоял немного, подумал – но купаться не стал. Вода почудилась ему застоявшейся – тина у кромки; темные во доросли тянулись из-под воды у самого берега, напоминая леших: он был брезглив. Он вспомнил сухой, словно просеянный – песок на том дальнем пляже – и загрустил.
Ну и нравы у нашей почты! Что сказали бы в его любимой – Воронцова – Англии?.. Читать чужие письма? Рыбу – ножом?. «Беру уроки чистого афеизма…» – (из злосчастного письма). То ли мы писали! Ну и вправду – брал уроки! И кто виноват, что наш государь нынче сделался таким набожным?.. (От нечистой совести, скорей! От нечистой совести!). «Беру уроки афеизма»… Подумаешь! А главный урок был в том…
– Здесь живет наш батюшка михайловский! – трещала Ольга на ходу… Отец Ларивон. Но все зовут – Шкода!.. Отец Шкода. Он не обижается. – Они опять поднялись в гору вдоль опушки – и подошли к Вороничу.
– А почему – Шкода? – Избушка попа была бедна и казалась брошенной. Никто не входил, не выходил…
– За приверженность к Бахусу! Один батюшка во всей округе – да и тот вечно пьян! – рассмеялась. – Я не буду здесь венчаться! Потом еще скажут: пьяный поп венчал!
Она явно страдает – что не замужем! И впрямь – двадцать семь!..
– А я так хочу беспременно – пьяного попа! И потом скажу – что все было неправда! «Но Ленский, не имев, конечно – Охоты узы брака несть…» – Он хотел от вести ее от грустных дум…
– А что это? – спросила она.
– Да так… одна штука!
«Онегина» он берег про себя – и не торопился распространяться об нем. – Все равно – что сознаваться в любви!
– Потом как-нибудь!.. – сказал он сестре.
Незаметно они вышли на луг перед самым холмом. Цветы помельчали к осени – но все ж просверкивали там и сям – юные и нежные, где-то подвялые, чуть не с рожденья – как люди, которым не дано войти в зрелость. Луг был огромный, мощный – три горы съехались к нему, как былинные богатыри. Троегорье! Представляю себе, что будет здесь весной, когда начнут стекать талые воды!.. Невдалеке девки-крестьянки в белых льняных платках, покрывавших голову и лоб, с поддернутыми подолами – сгребали траву вчерашнего сенокоса. Верно, считая, что уже успела просохнуть на солнце. Или староста распорядился?
– Ну, пойдем?.. – сказала сестра, давая знак к подъему в гору.
– Не-а… – Он улыбнулся. – Подожди, а?.. Я искупаюсь пойду!..
Она пожала плечами и отвернулась. А он спустился к реке и за кустиком быстро разделся донага. Сороть здесь уходила почти обрывом в глубину: омут – темнота, чистота… Оглянулся. Сестра была далеко, прохаживалась по тропинке, стараясь не обращаться лицом к реке… А девки, что девки?.. Голого барина не видели? Они там что-то такое пели – дикое и невнятное: песнь растекалась в воздухе, мешаясь с птичьими гомонами и треском кузнечиков, донося до него не взрачные слова – песнь была глупа и прекрасна. «И хором по наказу пели – Наказ, основанный на том…» Он иногда жалел, что начал «Онегина». Тот врывался в его мысли, заставляя на каждом шагу рифмовать живую жизнь. Он коснулся воды ступней – раз и другой, еще не решаясь. Он стоял нагой: невысокий, худощавый, как-то правильно скроенный – точно из готовых частей. Он знал, что нравится женщинам. Нет, просто… с некоторых пор он нравился себе. С каких? О-о! Я не заслужила такой любви!.. Да-да! Это она-то не заслуживает! – какое счастье! И нырнул в воду. Вода была прохладной – и сразу охватила его всего, как любовь. Он ушел на глубину. Сейчас он был во Боге – и Бог был в нем. Он, сосланный в деревню за афеизм… за строчку глупого письма, по чьему-то (Уоронцова?) наущению распечатанного на почте. Воронцову было за что преследовать его. Нехорошее чувство возникло в нем. Победителя. В той полутемной ком нате, которую он снял на несколько часов у каких-то немцев – на берегу моря, застрявшего в песках… Как она сказала? «Я не заслужила» или «я не заслуживаю»? Он не помнил: он умер тогда. И теперь, умерший – спустился в Аид – искать свою Евридику… Орфея растерзали менады, и его голову прибило к берегу у побережья острова Лесбос. Потому-то Лесбос так славился – поэзией и женщинами. Он сплавал – туда-назад, и его голову прибило к берегу Сороти… Он вышел на берег, быстро растерся и оделся. Он бредил. Он любил. Девки вдалеке, кажется, смеялись – верно, видели его голым. Он тоже смеялся. «… уроки чистого афеизма»… Ну и что? А главный урок был в том, что все мы во Боге, покуда мы живы – а Бог проникает нас. А в царствие Божие за гробом – не верю и все тут – не верю!.. И какой смысл в нем – за гробом?.. Поискал глазами сестру. Она возникла на тропе выше его глаз – сперва лишь юбка и зонтик. «Иду! – крикнул он, – иду!» И, уже подходя, окинул взглядом ее всю – обозрел: узкая фигурка, необыкновенно изящная, в мать – особый поворот головы и этот узкий носик – греческий, чуть книзу… солнечный свет бликами на фигурке, и подумал вновь – с любовью и тоскливо: «И чего ей не хватает – для успеха?» Мокрое полотенце он нацепил на палку – и поднял в воз дух. Арина дала ему красивое, таких в доме мало!..
И так, с мокрым полотенцем на палке – как знамя на древке – он поднялся на холм и впервые после приезда вступил в тригорский дом…
В доме его ждали. Это было заметно. Слухи в деревне расходятся необыкновенно быстро. И потом…он был известен здесь – не то, что в 17-м, когда заезжал сюда – еще почти юношей, еще после Лицея. Он вошел и глотнул собственной известности. Не то чтобы жадно – но не без удовольствия.
– Ах, – воскликнул кто-то из девиц, – ах!..
Все лица поворотились к нему – а дом только подымался от обеда, и слуги уносили посуду, и за столом была, верно, вся семья. И покуда Ольга целовалась с барышнями – о, эти дамские поцелуи! – пышно, пылко и безо всякого удовольствия, – он подошел к ручке хозяйки, с которой был более знаком, нежели с другими. Она сидела в креслах, чуть сбоку, чуть в полутьме – вытянув руку из кресел – и он приник к этой руке, которая показалась даже слишком теплой – и откровенно дрогнула в его пальцах. И была она тонкой, девичьей, хрупкой… У руки не было лет, и у глаз – не было лет…
– Мы вам рады! – сказали в креслах. Александр поклонился. – Мы вам рады!..
Он ошибся: строгость шла не от глаз. От нижней губки – выпяченной, по-габсбургски. – как у Марии-Антуанетты… (подумал он).
– Мы схоронили Ивана Сафоновича в феврале!..
– Да, да… я слышал. Примите… – Речь шла о ее втором муже.
– Так что у нас траур – до середины февраля. У нас не танцуют. Но мы принимаем!.. (И, помолчав…) Почти всякий день!..
И то, что она перебила его вполне равнодушные соболезнования, и то, что говорила так обыденно и просто – разом подкупило его. Он улыбнулся.
– Почти всякий день? Я еще вам надоем!.. Она ж, кажется, полька?.. Забыл – как ее девичья фамилия?..
– А это – Зизи, помните ее?..
Он разом окунулся в другой взгляд, другие глаза… В них была та же чернота – только какая-то цыганская веселость.
– Евпраксия! – сказала девушка лет пятнадцати и протянула руку по-взрослому.
– Как? Зизи? Вы?.. Та самая?.. – Он ладонью показал что-то такое маленькое, от полу…
– Евпраксия! – повторила девушка. Но не выдержала тону и рассмеялась.
– Вы еще отведаете – какую она готовит жженку.
– Хорошо! Я готов хоть сейчас! Я люблю жженку! – Он обернулся – и там были третьи глаза. Такие же, в сущности – только море серьезу.
– А-а!.. Вы – Нетти, наверное?
– Нет, что вы! Нетти – моя двоюродная сестра, ее сейчас здесь нет. Но неудивительно – что вы запомнили именно Нетти!
– Тогда вы – Анна! – сказал он уверенно, чтоб отвести упрек….
– Да, я – Анна… – и чуть нахмурилась. Мир был создан для Нетти. Она к этому начинала привыкать.
– Вы узнали Алину? Дочь Ивана Сафоновича – и, конечно, моя!.. – Глаза были другие. Не материны. То есть, не мачехи: дочь мужа хозяйки от первого брака…
– Жаль, нет брата, Алексея. Но он скоро приедет! Он в Дерпте, студент… Он там сдружился с поэтом Языковым. Слыхали такого?..
Глаз было много. Женских, пристрастных… Он плавал в этих глазах, как в зеркалах.
– Такая это – пока я! – сказала, подходя к нему, маленькая девочка, и повторила его давешний жест – ладонью от полу – только над своей макушкой.
– Александр, ты невнимателен! – попеняла ему сестра.
– Прости, мое чудо! – он нагнулся, поцеловал девочке руку – как взрослой, потом ладошку – как маленькой. После поднял на воздух и поцеловал в щеку. Ей было лет пять…
– Она тяжелая! – предупредила мать.
– А правда, что ты – арап? – спросила девочка, глядя на него сверху.
– Что ты, Маша?! Как можно?..
– Простите ее!.. Кто тебе позволил звать взрослых на «ты»?
– Лучше сбросьте ее с рук!.. – почти враз заголосили взрослые.
– Видишь? Это – доверие! Мне она такого не говорит! – Ольга усмехнулась деланно – вдруг брат обидится? Они давно не бывали вместе…
– Конечно, арап! – сказал Александр, смеясь, и только выше поднял девочку. Вот, потрогай! – и провел ее ручкой по щеке, заросшей курчавой щетиной. – То-то!..
– А почему у тебя такие длинные ногти?..
– Чтоб очищать апельсины! – сказал он. – Ты любишь апельсины?..
– Если не кислые!.. – почему-то вздохнула. И, немного подумав: – А ты не дьявол?.. (Впрочем, безо всякой боязни.)
– Маша! – всплеснулись разом несколько рук.
– Нет, – сказал он серьезно. – Я – бес арапский!
– А что это? – спросила девочка.
– Ну… есть такая страна. Бес-арабия. Страна бесов!.. Я только что оттуда! Бес 10-го класса… – и сделал бесовское лицо.
– И не страшно! – сказала девочка, повела плечиком по-женски и сама стала спускаться с его рук…
О проекте
О подписке
