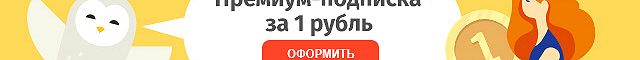
Основными группами, сопротивляющимися на начальном этапе становлению романа как автономного и признанного литературного жанра, выступали определенные круги духовенства (янсенисты, иезуиты, кальвинисты) и классически (а позднее – просветительски) ориентированные литературные авторитеты (Буало, Вольтер, Дидро). При этом роман дисквалифицируется в основном по двум критериям.
Роману XVII столетия, т. е. двум его господствующим разновидностям – перерабатывающему куртуазные традиции прециозному (героическому, любовно-пасторальному) и мещанскому (комически-бытовому) – предъявляются обвинения в «порче нравов» (тематизации «низких» по классицистическим канонам или табуируемых в «обществе» областей значений – эрос, преступность, деньги) и «порче вкуса» – экстраординарности вымышленных или гротескности «подлых» ситуаций, грубости или, напротив, вычурности языка (и в том, и в другом случае – жаргонности). Критика претензий романистов на место в «литературе» затрагивает, таким образом, все аспекты поэтики (аналитически разводимые исследователем): воспроизводимые в романе напряжения и конфликты (ценности достижительства, любовь, аномия), способ их представления (неправдоподобие, т. е. отклонение от нормы «естественного» для классицизма и раннего просвещения) и экспрессивную технику («слог»). Примечательна зафиксированная даже гораздо позднее (1826 г.) социальная норма немецких «порядочных семейств» «не говорить о романах при слугах и детях»57.
Кульминацией этой борьбы культурных группировок с применением социальных санкций является во Франции декрет 1737 г., запрещающий, кроме считаных исключений, публиковать отечественные романы как «чтение, развращающее общественную мораль»58. Средством разрешения конфликта стала публикация английских романов С. Ричардсона, Г. Филдинга и др., задавших французской словесности существенно иной образец поэтики, «чужой» и авторитетный в этом качестве для кругов маргиналов. Отличия, в частности, касались объема романа и степени конденсированности действия, развивавшегося хронологически и биографически (в противоположность неограниченному нанизыванию эпизодов – эквивалентов куртуазных «авантюр» – в многотомных прециозных повествованиях об условно-стилизованных античных героях). Это обстоятельство активизировало во Франции жанр микроромана (nouvelle), переосмысляемого под влиянием английского novel – биографического повествования о буднях «бесфамильного» частного лица в современную эпоху. Последний противопоставлялся вымышленному и условно-обстановочному romance, квалифицируемому в Англии конца века уже как устаревший, стандартизированный – например, экзотический, разбойный, пиратский и т. п.59 – и «низовой» жанр для «прислуги» (см. программное эссе К. Рив «Старинный roman и современный novel», 1785 г.60). Кроме того, под влиянием более ранних и по-иному протекающих процессов интенсивного социального и культурного изменения в английском романе со значительным опережением были выработаны значимые для определенных кругов французского общества (мелкой, чиновной, «новой» и т. п. аристократии) повествовательные образцы. В них тематизировались социальные проблемы, выдвигался тип героя – социального «медиатора», сниженного до «обычного человека», были найдены такие модусы литературности, как «психологичность», «чувствительность», «трогательность», универсализирующие социально-аскриптивные характеристики героев до «моральных, душевных качеств» (в чем сказалось воздействие идей англиканства, адаптированного английским романом в ходе секуляризации).
Последующая легитимизация романного жанра идет, естественно, по линии поиска исторических предшественников в восточной сказке, античной эпике, средневековом romans и т. п. Но прежде всего она осуществляется как выработка собственных эстетических конвенций, обоснование реалистической фикциональности и изощрение техники иллюзорного правдоподобия, подчеркивание нравственной полезности романов и их чтения.
Необходимо учитывать, что эти процессы в литературной культуре развивались в контексте интенсивных социальных и культурных изменений. Укажем, например, на повышение уровня грамотности, приобретающей значение средства социальной мобильности. В немалой степени это касалось женщин, что особенно важно для романа, бывшего в ходе различных движений за эмансипацию предпочтительным жанром читательниц и писательниц, более того – для многих образованных современниц «равенство полов» входило в широкий контекст эгалитарных требований, в том числе и «равенства жанров». Кроме того, для этого периода характерны интенсивное становление системы «массовой» журнальной и газетной печати, активизация производства дешевых, «рыночных» (в том числе «пиратских») изданий, массовая мода на чтение «профанной» беллетристики, повлиявшая, в свою очередь, на расширение круга деятельности библиотечных абонементов и т. д., что ознаменовалось позднее (в первой половине XIX в.) образованием относительно развитых и автономных национальных литературных систем и приобретением литературой и романом статуса универсальной культурной ценности61.
Так, существенное влияние на начинающуюся автономизацию культурного статуса литературы (в ее современном значении) оказали процессы становления национальной культуры и национального языка в Германии, имевшие ощутимый антиаристократический или, по крайней мере, антипридворный оттенок62. Одни из первых реформаторов немецкого языка были вместе с тем и первыми теоретиками словесности и литературы, издателями, авторами од, трагедий, поэм и т. п. (от М. Опица до И. Х. Готшеда). Их появление еще в первой половине XVII в. сопровождалось деятельностью различных «обществ немецкого языка», из которых ведущая роль принадлежит «Плодоносному обществу». Благодаря этому уже в XVIII в. было в значительной степени преодолено или как минимум подорвано господство пиетизма и светских интернациональных и рационалистически классицистских вкусов и принципов образования и воспитания, характерных прежде всего для придворных и аристократических кругов. О массовом чтении – прежде всего общеобразовательном, «культивирующем» – можно говорить уже начиная со второй половины XVIII в., поскольку именно в это время отмечается резкий рост городских читателей. Выходят различные журналы, начало которым положено «Немецким еженедельником» Хр. Томазиуса «для образованных лиц из всех сословий, включая женщин». И. Х. Готшед издает «Моральные еженедельники», «Разумные прорицательницы», печатавшие прозу и поэзию. Позднее появляются «литературные газеты», в которых сотрудничают и публикуются А. фон Галлер, Х. Ф. Геллерт, Ф. Г. Клопшток и др. Вместе с ними впервые возникает и литература для детского чтения (типа сборника назидательных историй), и, наконец, первый журнал для детей «Друг детей» Хр. Ф. Вейсе (1775 г.) и последовавшие за ним многообразные «детские еженедельники».
Как сами романисты, так и кодификаторы их творческой практики были вынуждены учитывать данные процессы, что заставляет их обращаться в поисках норм самоопределения к авторитетным достижениям естественных наук, философии, истории, теологии (таков, например, генезис понятий и принципов «реализма», «конвенции», «фикции» и т. п.). Ограничимся здесь лишь общими указаниями на некоторые феномены подобной адаптации. Роман, заступающий для секуляризирующихся групп место религиозного обоснования смысла деятельности в мире как «светское писание», постепенно и через многие опосредующие моменты усваивает – в различных, разумеется, национально-культурных формах – переосмысленные (в особенности – протестантизмом) христианские идеи личности как самоответственной инстанции и ее нравственного становления в рамках жизненного цикла, осмысленного и оцененного из «конечной» перспективы частного существования63. Во Франции аналогом этих процессов выступает влияние концепций и проповеднической деятельности янсенизма, адаптированное моралистическими жанрами и оказавшее через них воздействие на романистику А. Ф. Прево и др. (здесь, как и всегда, ситуация проповеди и обучения обострила моменты прагматической, коммуникативной структуры текста).
Тем самым был дан толчок субъективации определений действительности в романном повествовании, значения в пределах которого упорядочиваются через отнесение представляемого к ценностной инстанции личности и, соответственно, – к проблематизации точки зрения, фигуры повествователя, нередко рассказывающего о себе в прошлом из значительной временной перспективы, что задает рефлексивную, в том числе читательскую, дистанцию (так называемый «двойной регистр»). Другим моментом, стимулирующим проблематику самотематизации и влияющим на типы повествования от первого лица, является выработка техник условного правдоподобия, иллюзорного присутствия при происходящем, принимавшая формы фикциональной симультанности чтения и описания64 («письмо», различные ситуации «подсматривания», фиктивный издатель найденных «подлинных» и частично остающихся зашифрованными документов и др. типы идентификации и дистанцирования читателя). Здесь сказывается влияние как «духовной автобиографии» (исповеди, отчета о духовном «хозяйстве» различных ересей и сект, например методизма), так и «модных» исторических мемуаров и дневников, прослеживать которое в деталях необходимо уже на конкретном историческом материале. Способом нормативной стабилизации этих разрушающих текстовую «реальность» моментов выступают сохраняемые (прежде всего, «популярным» романом, но отнюдь не только им) религиозные по своему генезису и универсализированные до «моральных» оценочные рамки координат описываемого (например, жесткая дихотомизация героев в тех романах, которые находились под влиянием сценической мелодрамы и т. п.)65.
С другой стороны, в романе дифференцируются и разводятся значения самой «истории», бывшей еще до романистов XVII в. синонимом давних и «высоких дел». «История» (часто вводимая уже в заглавия произведений с характерными предикатами «истинная», «правдивая») тем самым теряет престиж нормативной и самодостаточной реальности равного себе прошлого, «представленного» или, напротив, однозначно интерпретируемого в качестве «эмблематического». Через референцию к будущему как регулятивной инстанции она превращается для романистов и их публики к концу XVIII в. в область определений современного, частного и повседневного, то есть потенциально готовую к любому содержательному наполнению.
Под воздействием естественных наук, просветительского рационализма и укрепляющейся историзации социальных дисциплин проходит и сравнительная релятивизация категории «нравственного» до значений «представляющего обычаи, нравы». Рационализируется (хронологизируется) пространственно-временная артикуляция романного действия, открывая возможности для совмещения и взаимодействия различных ценностных перспектив рассказывания на фоне универсальных мер. Все это ведет к определению романа (novel, roman) уже не через область закрепленных за ним тематизируемых значений социальной действительности (к ним, кстати, относится и «любовь»: ср. еще и современную семантику «романа»), а исключительно через фикционализм норм и техник их текстового развертывания при нерелевантности каких бы то ни было априорных ограничений на предметные сферы тематизируемого.
К первым десятилетиям XIX в. роман осознается уже как наиболее адекватная литературная форма тематизации процессов социального и культурного изменения, что делает его принципиально «открытым» жанром, вбирающим разнородный тематический материал и различные литературные традиции, перманентно разворачивающимся, бесконечно дробимым на виды, подвиды и разрушающим любые содержательные ограничения. В рамках его вырабатываются теперь уже «имманентные» функциональные эквиваленты заимствуемых прежде авторитетных литературных, художественных и общекультурных конструкций (драмы, лирики, живописи, музыки и т. п.). Более того, и само появление «романа» связывается теперь с эпохой радикальной дестабилизации социального порядка («счастлива нация, не имеющая романов», – А. Шпехт, 1834 г.; «революции, эти повивальные бабки романов», – Ф. Шаль, 1839 г.)66.
«Родословная» жанра ведется от произведений С. Ричардсона и А. Ф. Прево (предыдущее расценивается, так или иначе, как «предыстория»), а роман становится синонимом «современности». Примерно к этому же периоду в ходе дифференциации социокультурной системы литературы роман, а точнее – некоторые типы его построения, вновь маркируется как «массовое» чтение: в 1830‐х годах во Франции возникает и стремительно приобретает популярность и противников роман-фельетон («промышленная литература», по выражению Ш. О. Сент-Бёва). Данная универсализация жанра (в социальном и культурном аспектах) открывает возможность в дальнейшем – исторически, участникам процесса или их исследователю – фиксировать «на фоне» романа едва ли не всю совокупность особенно интенсивно с этого времени дифференцирующихся, борющихся и уходящих социальных групп и культурных традиций, делая его для Новейшего времени синонимом литературы в целом.
***
Сложившаяся в ходе описанных процессов генетическая и функциональная связь идеи творца и независимости художников обеспечила писателю трансцендентальный статус в культуре, точнее, трансцендентальность его «субъективности». Иногда последняя передавалась «личности» повествователя, становящейся уже моментом конституции литературного текста. Смысловые, ценностные, культурные импликации литературного повествования могут, будучи развернутыми, объяснить функциональные ожидания и проекции, связанные с высоким статусом литературы как хранительницы культуры в ее значениях добра, мудрости, гуманности, осмысленности бытия и проч. Особенно это действительно для обществ, где только литература и выступает сферой, в которой легитимно может существовать эмансипированная от той или иной социальной тотальности культурная общность, т. е. где литература становится не только общей, но и единственной областью тематизации неспециализированных ценностных значений, синонимом политико-идеологического, философского и даже религиозного знания (как, например, в России XIX в.).
При этом по широте тематизируемой в литературе социальной проблематики можно судить о характере существующих социальных напряжений. Там, где литература не имеет характера репрезентации культуры в целом (а это связано с высокодифференцированной социокультурной структурой общества), она обычно «литературна», т. е. рефлексивна по отношению к себе самой, если так можно выразиться, «александрична», питается в значительной степени «вторичным» или собственно культурным, «мифологичным» материалом. В других же ситуациях литература тематизирует проблематизированные социальные значения или культурные образцы социального, а подчеркнуто «литературная» словесность расценивается крайне отрицательно и характерным образом квалифицируется (а порою и осознается самими ее авторами) как «чужая», инокультурная (ср. неприятие идей и образцов «чистого искусства» в России второй половины XIX века, резкие отзывы А. Блока о манифестах и практике акмеизма как «нерусском» явлении67 и т. п.).
Претензии литературы как субститута культуры на то, чтобы выступать потенцией любых ценностных определений, т. е. на обладание способностями к изображению любых аспектов человеческого в целом, универсальны. Однако, как свидетельствуют исследования ценностного содержания художественных произведений, литература ограничивается исключительно сферой общекультурных, неспециализированных значений, ценностей, идей, норм, представлений и т. п. Крайне редко (как правило, в экспериментальной или высокоэлитарной литературе) предметом ее внимания становится какая-то специальная сфера жизнедеятельности (например, ценности рационального познания, религиозные переживания, прямая политическая агитация). Это еще раз, вопреки ее собственным претензиям, свидетельствует о прежде всего идентифицирующем значении литературы, ее в основном интегративной функции в качестве средства тематизации и поддержания смысловых значений, интегрирующих формы редукции социальных или культурных напряжений, в том числе – напряжений субъективного самоопределения.
О проекте
О подписке