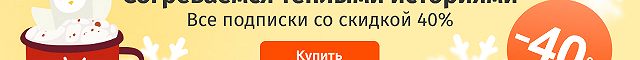
4
«Это Учреждение» – так мы его называли. Мама говорила: «Давайте съездим в Италию, когда Олли выйдет из Этого Учреждения» или «Парковка у Этого Учреждения отвратительная». В восемнадцать лет Оливию в первый раз положили в психиатрическую лечебницу. Это было учреждение средней и долгосрочной помощи в Нью-Йорке, где пациенты лежали от трех месяцев до трех лет. По субботам родители исправно ходили туда на обязательные сеансы семейной терапии. Папа ради этого отказался от игры в гольф, мама – от дня шопинга и тенниса. Она каждый раз брала комплект выстиранной одежды, новую зубную нить (старую Олли зачем-то наматывала на руки, как боксер бинтует кулаки) и две банки чипсов «Принглс».
Медсестры обыскивали сумки посетителей; мама считала это правило излишним и «показушным». По ее мнению, конфискованные предметы – бритвы, ватные палочки, щипчики и пилки для ногтей – скорее всего, перекочевывали в сумки самих медсестер. Еще она сказала, что Олли не хочет видеть никого из знакомых, даже меня. У меня было подозрение, что мама просто не хочет, чтобы я контактировала с Олли, как будто та может меня заразить. Мне не нравилось оставаться в стороне, но и увидеть родную сестру в психушке было боязно. Перед тем как ехать в больницу, отец обнимал меня одной рукой сбоку – цеплял и притягивал, словно персонаж водевиля длинной тросточкой. Когда у меня начала расти грудь, он перестал обнимать меня по-настоящему. Стоя в дверях, я смотрела, как он медленно, словно круизный лайнер, выводит «Крайслер» из гаража на подъездную дорожку и отъезжает от дома.
Пытаясь понять, что происходит с моей сестрой, я прочитала кучу книг. На каждой обложке была изображена девушка, задумчивая брюнетка. «Дневник Алисы», «Лиза, яркая и темная», «Под стеклянным колпаком». Ни одна из героинь не была похожа на Олли. Они не прыгали в кабриолет, распустив волосы, чтобы ими поиграл ветер. Они не ныряли со скал и не выныривали на поверхность, бешено колотя по воде руками, в полной готовности прыгнуть снова.
Отсутствие Олли угнетало меня еще сильнее, чем ее присутствие. Кресло, на котором она обычно сидела; музыка, которую она громко включала; окно, в которое она вылезала холодными зимними ночами. Олли согласилась лечь в Это Учреждение только ради папы – после того как он уговорил знакомого судью не отправлять ее в тюрьму для несовершеннолетних и, соответственно, не создавать ей репутацию преступницы.
Это случилось на первой вечеринке учебного года. Олли с друзьями завалились в дом одного из них, хозяева тогда были в отъезде. Они поставили усилитель на бочку, так что стены сотрясались от басов. Когда приехала полиция, кто-то спрятался в шкафу, кто-то сбежал. Чистый адреналин, говорила потом Олли, половина веселья в этом и состояла.
«Без мусоров было скучновато».
Потом выяснилось, что пропала норковая шуба хозяйки, а также восемь ложек, выкованных в мастерской Пола Ревира[9], возможно, работы самого мастера. Стали допрашивать всех участников вечеринки. Когда полиция пришла к нам, Олли выглядела как прилежная отличница: скромно сидела между родителями, коленки вместе, ручки на коленках, великолепные волосы собраны в хвостик на затылке. На вопросы полицейских она отвечала, глядя им в глаза, казалось, совершенно искренне.
«Да, офицер, я была на той вечеринке».
«Да, сэр, меня пригласили».
«Мы с Бобби знакомы с начальной школы».
«Да, я знала, что его родители в отъезде».
«Да, на вечеринке были наркотики».
«Нет. Мне не нравятся наркотики».
«Да, я выпила две банки пива “Хейнекен”».
Пожилой полицейский, извинившись за доставляемые неудобства, попросил разрешения осмотреть комнату Олли. Полицейские вместе с папой и Оливией спустились в подвал, а я увязалась следом. В комнате Олли плакаты зловеще светились фиолетовым и зеленым, зубы Стиви Никс сияли белизной. Когда молодой полицейский включил верхний свет, взорам предстала свалка: ломаная мебель, старые зеркала, постеры, косметика, грязная одежда, горы туфель и сапог, стереосистема, беспорядочно разбросанные пластинки и обложки от них.
Старший полицейский вежливо попросил разрешения заглянуть в комод и в шкаф. Олли не возражала. Она была в тот день такой покладистой. Он выдвинул верхний ящик, достал раздвижной щуп, похожий на антенну радиоприемника, и порылся в куче трусов и бюстгальтеров. Момент был неловкий, особенно для папы. Младший полицейский посветил фонариком под кровать. Луч выхватил из полумрака валявшиеся там журналы, учебники, грязные тарелки, комки пыли, одежду. Тут Олли слегка занервничала, до того идеальный образ дал трещину.
– Ну как? Вы закончили? – спросила она чуть раздраженно.
Фонарик выключили. Папа взялся было за дверную ручку, готовясь выпроводить непрошеных гостей, но молодой полицейский подошел к кровати с другой стороны, и фонарик вновь вспыхнул, как маяк в тумане.
– Хватит, – сказал отец. – У нее ничего нет.
Олли шагнула к нему, и он приобнял ее, гордясь и защищая.
– Эх, ничего себе! – Молодой полицейский вытащил из-под кровати норковую шубу и показал ее, держа за рукав. В карманах обнаружились восемь серебряных столовых ложек Ревира стоимостью, как мы потом узнали, более шестидесяти тысяч долларов. Полицейский постарше сказал, что ему придется забрать Олли в полицию.
– А нельзя просто вернуть эти вещи владельцам? – спросил у него папа. – Мы почистим шубу…
– Увы, нет, – ответил тот с искренним сожалением в голосе. – У самого дочери.
Мать сказала, что у нее в тот день дважды прихватывало сердце: первый раз – когда у наших окон засверкали красно-синие огни, а второй – когда Олли усаживали на заднее сиденье патрульной машины.
До той вечеринки Олли исчезала из дома все чаще и на все более длительное время. С каждым таким исчезновением мои родители явно пересматривали свои представления о нормальном поведении, поскольку оно менялось на глазах. Они больше не звонили друзьям Олли, товарищам по команде, тренеру, полиции. Олли в конце концов возвращалась домой и жила по-прежнему, по-своему. На день-два запиралась в своей комнате, а ночью совершала набеги на холодильник. Однажды она оставила на столе открытую бутылку молока. Утром мать, вся дрожа от гнева, вылила содержимое в раковину. Наш дом превратился в заправочную станцию, где Олли заправлялась перед тем, как снова отправиться в путь.
Когда мамино старинное кольцо с бриллиантом, доставшееся ей от бабушки, исчезло вместе с подаренным Олли теннисным браслетом, мать уволила нашу домработницу. Но осталось подозрение: может, драгоценности взяла Олли? Отец обошел все ломбарды в радиусе шестидесяти миль. Он вернулся домой с пустыми руками и расстроенный. Он не мог выбросить из памяти увиденное в ломбардах: обручальные кольца, подарочные наручные часы, фотоаппараты, горн. Папа сказал, что ему было больно думать о том, как люди отламывают части себя, чтобы выжить. Он даже прикинул, не купить ли подставку для книг в виде пары бронзовых детских ботиночек.
– Представь, каково это – заложить вещь своего ребенка?
– Они на эти деньги покупают наркотики, – возразила мама. – Я бы не стала проливать слезы по этому поводу.
Раньше доброта и уравновешенность отца всегда помогали маме успокоиться. Теперь те же самые качества ее бесили. Ей хотелось, чтобы муж откликнулся, разделил ее эмоции, почувствовал ее негодование и разочарование. А он был убит горем, ведь его прекрасная дочурка оказалась в психушке. Отец, сколько мог, спасал Оливию, выручал ее, переводил ей деньги, переводил ее саму в другие больницы, возвращал домой.
– Как поживает твоя старшая сестра? – спросил доктор Сэлинджер.
– Отлично, – поспешно ответила за меня мать. Раньше мы с Олли всегда вместе приходили на ежегодный осмотр к нашему семейному педиатру. Доктор попросил маму подождать несколько минут в коридоре. За всю мою жизнь такого тоже не случалось.
– Нам бы надо поговорить как взрослым людям.
– А! Хорошо! – кивнула мама с наигранным весельем.
Доктор Сэлинджер носил огромные ортопедические туфли с маленькими кожаными буграми. Постукивая резиновым молоточком по моему колену, он сам слегка подпрыгивал, словно проверял свои собственные рефлексы. Мне дико хотелось рассказать ему об Этом Учреждении, о том, что натворила Олли, о том, что родители теперь все время ссорятся из-за нее и что весь наш дом наполнен отравленной атмосферой стыда и тайны.
Я чувствовала, что ему можно доверять, но мать строго-настрого запретила рассказывать кому бы то ни было о наших проблемах. К тому же я знала, что она устроит мне в машине допрос с пристрастием и я сломаюсь.
Доктор Сэлинджер спросил, веду ли я половую жизнь.
– М-м-м, нет.
– Месячные уже начались?
– Нет еще.
Он сделал несколько пометок на потертой по краям карточке.
– Как оценки, все так же на высшем уровне?
– Да.
– Друзья есть?
Я чувствовала, что он хочет услышать «да», и пошла ему навстречу. Если честно, никому нет дела до того, что ты не вписываешься в общество. Доктор пригласил маму обратно в кабинет и предложил мне выбрать в подарок плюшевую игрушку фирмы «Штайф» из огромной коллекции у него на эркере. Хотя я не была фанаткой плюшевых игрушек, я оценила реализм изделий: они были твердыми, как игольницы, с мохеровым мехом и стеклянными глазками. Мама говорила, что у игрушек этой фирмы есть знак подлинности – крохотные серебряные пуговки в ушках.
– Спасибо, – вежливо отказалась я.
– Возьми какую-нибудь, Эми! – Доктор, наверное, все-таки почувствовал, что друзей у меня нет.
Я понимала, что игрушки неодушевленные, но у меня рука не поднималась забрать одну из них из семьи.
– Спасибо, не надо.
– Ну, пожалуйста, – настаивал он. – Мне будет приятно.
Пока они с мамой разговаривали, я выбрала самую маленькую из игрушек, белую мышку, и пощупала крошечное ушко. Пуговка была на месте.
Папа наконец уговорил маму свозить меня к Олли на сеанс семейной терапии.
– Зря все это, – бросила мать, когда мы ехали в Это Учреждение. Она не хотела, чтобы я видела других пациентов – некоторые из них были «явно недееспособными».
– Они же сестры, Лор. Мы одна семья.
– У Эми есть дела поважнее.
Я, сидя позади, готовилась к предварительному тестированию в колледж.
– Доктор Саймон говорит, нужно, чтобы вся семья приезжала, – отстаивал свою позицию папа.
– Ну вот, мы все и едем… – Мама достала из сумочки тюбик помады, опустила козырек и второй раз накрасила губы.
В Этом Учреждении, проверив сумки на предмет контрабанды, нас провели в большое открытое пространство под названием Общественная комната, обставленное потрепанной мебелью. Здесь работал телевизор, негромко рекламируя ювелирные изделия. Пост медсестер был отгорожен толстыми стеклянными стенами, укрепленными проволочной сеткой. Там находился пункт выдачи лекарств, и на стене был прикреплен плакат с изображением висящего на лапах кота и надписью: «Держитесь там».
Понемногу начали прибывать другие семьи. Один из сотрудников вкатил тележку со складными стульями и расставил их широким кругом. В огромных дверях из нержавеющей стали начали по одному или по двое появляться пациенты. Мама сказала, что там находятся палаты и что Олли всегда появляется последней: ей нужно сделать из этого событие. Я вдруг испугалась, что не узнаю родную сестру или что она не узнает меня, хотя прошло всего несколько месяцев. Меня медленно, но верно охватывала паника.
Одна девочка была одета в короткие шорты и укороченный топ. На другой была футболка с отслаивающимся принтом с котом Гарфилдом. Был еще мальчик со стрижкой под горшок, в скаутской форме без нашивок и значков и в огромных кроссовках. Они расходились по кругу к своим семьям, обменивались приглушенными приветствиями и осторожными объятиями и усаживались на свои места. Наконец появилась Олли, и моя тревога утихла: сестра не изменилась. Она осталась собой. Спортивный костюм, шлепанцы, темные очки поверх красивых локонов.
– Эй, это моя заколка! Я что говорила?
Я крепко обняла ее за талию и прижалась к ее груди.
– Э, э, я тоже по тебе соскучилась.
Я чуть не разревелась.
– Где ты пропадала, Эйкорн?
Я обняла ее еще крепче.
Сестра плюхнулась на один из стульев и потянула меня на место рядом. Теперь, вблизи, я увидела, что губы у нее высохли и потрескались в уголках. Волосы у пробора были покрыты перхотью, пальцы в ободранных заусенцах, ноги грязные.
В этот момент вошли и выстроились в шеренгу терапевты и социальные работники с планшетами и картонными папками.
– Семь гномов, – шепнула мне на ухо Олли.
Последним вошел мужчина в свободных брюках и кремовой водолазке, с медальоном в форме чайного листа на золотой цепочке. Это был директор лечебницы доктор Саймон.
– Этот человек – эготист, – объявила моя мать после первого такого сеанса. Они с отцом тогда вернулись домой измотанные, купив по дороге ведерко курятины, что делалось в тех редких случаях, когда мама не готовила ужин.
– А чем эготист отличается от эгоиста? – с невинным видом спросил папа.
– Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду, – отрезала мама.
Через несколько недель она упрекнула доктора Саймона в том, что он «пичкает» своих пациентов сильнодействующими лекарствами. Он ответил, что психиатрия – несовершенная наука, ошибки неизбежны, но лекарства облегчают страдания. Неужели она хочет, чтобы ее дочь страдала? Маме не понравился его тон, и она обвинила папу в том, что тот за нее не заступился.
– Он же разговаривал со мной как с ребенком! При тебе! Ты все слышал!
– Он просто пытался объяснить, как это работает…
– Там половина пациентов ходят как зомби!
Мама не верила, что Олли страдает. Она много раз говорила, что если бы Олли, как положено, отправили в исправительную колонию, то это пошло бы ей на пользу. Вся эта «терапия» – просто способ избавить детей из привилегированных семей от юридических последствий за правонарушения. Олли поймали на воровстве, а страдаем из-за этого теперь мы, ее близкие. А доктор Саймон к тому же был сторонником системной терапии семей. Он считал, что то, что случилось с Олли, случилось со всеми нами. И если мы хотим, чтобы ей стало лучше, мы должны разобраться в себе.
– Как он смеет! – возмущалась мама. – Как он смеет переводить стрелки на нас!
Наслушавшись маминых отзывов, я представляла себе доктора Саймона крупным и внушительным мужчиной, но он оказался довольно маленьким. Большой у него была только голова, которая все время кивала и покачивалась туда-сюда, как у китайского болванчика. Он уселся, подтянув штаны, и представился директором психиатрического отделения. Я не упустила возможности посмотреть на его промежность. Меня в то время одновременно интересовала и отталкивала мужская анатомия. Но у доктора Саймона там, похоже, вообще ничего не было; его «чинарик», как называла эту штуку Олли, полностью затерялся в складках штанов. Очередная загадка мужской анатомии, которую я не могла постичь.
Доктор Саймон внимательно оглядел весь круг, многозначительно посмотрев в глаза каждому пациенту и члену семьи. Дойдя до меня, он остановился.
– А вы?..
– Это Эми, моя младшая сестренка, – объяснила за меня Олли.
– Добро пожаловать, Эми. Позвольте вас немного озадачить. Вы знаете, почему ваша сестра сейчас здесь? Не волнуйтесь, неправильных ответов тут нет.
По своим одноклассникам я знала, что неправильных ответов бывает много, равно как и глупых вопросов.
– Эми, – повторил доктор медленно, – вы можете нам сказать, почему ваша сестра здесь оказалась?
Все взоры были устремлены на меня.
– Надеюсь, с ней все в порядке, – только и смогла выдавить я. Сотрудники лечебницы начали щелкать пальцами. Позже я узнала, что щелчки в Этом Учреждении означают высшую форму похвалы; и хором щелчков награждают только за одно – за искренность. Мой отец присоединился к этому хору, пощелкивая одной рукой, как будто отбивал ритм в джазе. Мать сидела неподвижно, скрестив руки на груди.
– Спасибо, Эми. Вы все являетесь частью этого процесса, – продолжал доктор Саймон. – Мы очень рады, что вы сегодня с нами. Мы все здесь, потому что ваши сыновья и дочери борются за свою жизнь. Некоторые из них пристрастились к наркотикам, серьезным наркотикам, некоторые отказывались от пищи, некоторые совершали безрассудные поступки. – Он сделал драматическую паузу. – Некоторые пытались покончить с собой… – Доктор помолчал, чтобы все осознали важность сказанного. – Вы нужны нам, – заключил он, – потому что семья – это динамическая система…
– Вот, он переходит к той части, в которой будет нас обвинять, – шепнула мама отцу.
Олли достала из кармана рубашки леденец и, сорвав целлофановую обертку, сунула его в рот. Она быстро втягивала и вытаскивала его, так что мне было слышно, как конфета стучит по зубам. Потом она разгрызла леденец с таким звуком, словно во рту у нее хрустнуло стекло.
Я начала подозревать, что эта система лечения Олли не поможет. Что она просто научится с ней играть. Она не стала бы злоупотреблять лекарствами или объявлять голодовку, но своим отказом подчиняться и сотрудничать она продолжала затягивать срок своего пребывания здесь. Она называла доктора Саймона настоящим Чудом Без Члена, и мне хотелось спросить, заметила ли она, что в складках его полиэстеровых брюк ничего не просматривается.
Позже в тот день нам предложили посетить комнату арт-терапии, спортзал, библиотеку и кафетерий, где бесплатно угостили кофе с печеньем. Я хотела посмотреть комнату арт-терапии.
– Я у них в черном списке, – призналась Олли. Один раз она напала на арт-терапевта, вооружившись детскими ножницами, – понарошку, как она сама сказала, – и ее отправили до конца дня в палату, лишив возможности посмотреть телевизор. – Из-за каких-то сраных детских ножниц!
На следующем занятии она нарисовала на альбомном листе гроб и написала: «Спи с покойником». На сей раз ей запретили курить.
– Вот люди! – пожаловалась Олли. – Ни хрена чувства юмора!
Доктор Саймон считал, что все замечания и жесты имеют значение, особенно шутки. Он утверждал, что люди прибегают к юмору, чтобы отвлечься от боли. Олли говорила, что это все чушь, но мне это показалось правдой. А мама полагала, что все в лечебнице делается исключительно для показухи.
Рисунки пациентов были развешаны по всему кабинету арт-терапии на ниточках, как белье на веревках. Арт-терапевт показалась мне человеком доброжелательным. У нее были блестящие каштановые волосы, платье-халат от Лоры Эшли, толстые колготки и башмаки. Неудивительно, что Олли сразу же ее невзлюбила. На столах стояли коробки из-под печенья с мелками, губками, пластиковыми баночками с темперной краской, как в начальной школе. Кисточки были запрещены. По словам Олли, один из пациентов воткнул себе кисточку в глаз.
– Полный неждан, – бросила Олли. Я попыталась представить себе эту картину, но это было слишком ужасно. – А один парень повесился на простыне, – добавила Олли. – Вот это самоотдача.
Нам предложили самим нарисовать «особую открытку» для родственника-пациента. Я взяла губку и нарисовала на листе желтой бумаги красное сердце. Сначала я написала на нем «Возвращайся домой», а потом замазала надпись. В обычной ситуации я взяла бы новый лист; терпеть не могу ошибок и исправлений. Но времени начинать все заново не было, поэтому я написала поверх старой надписи первое, что пришло в голову: «Это отстой». Поздно вечером, когда мы вернулись домой, Олли мне позвонила. Она сказала, что ей понравилась моя открытка, и заплакала. Олли никогда раньше не плакала; по крайней мере, я не видела.
– Ты одна говоришь правду, – всхлипывала она. Я слушала ее, пока она не успокоилась. Потом в трубке послышался крик какого-то другого пациента:
– Время, Шред!
Я спустилась в комнату Олли и включила ультрафиолет. Комната засверкала: осветились лады гитары, ворс на одеяле стал похож на море люминесцентных водорослей, загорелись звезды, приклеенные к потолку, – мой подарок на день рождения. Они должны были располагаться в форме Овна, ее знака зодиака, но Олли, как обычно, не стала следовать инструкциям и беспорядочно разбросала звезды по потолку.
О проекте
О подписке
Другие проекты