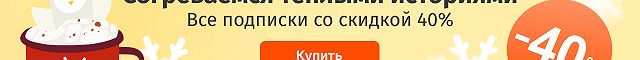
Блестящие, бисерные глаза обычной куколки, сидящей в кресле, злобно сверкали, – и мне показалось, что они следят за каждым моим движением. Какая-то враждебность исходила от этой детской игрушки. Я невольно отступил на шаг, пораженный собственным страхом – абсурдным, нелепым страхом перед тряпичным созданием, которое, казалось, только ждало, чтобы я отвернулся.
В этот миг сверху, с чердака или, быть может, со второго этажа, послышался глухой, осторожный звук – казалось, кто-то передвигал стул, будто, тяжёлое тело, медленно, не желая быть услышанным, переступало по половицам. Звук стих, потом повторился, какие-то шорохи ближе к лестнице. Я молчал и следил то за лестницей, то за куклой. Она, обнажив тонкие, почти явственные зубки фарфорового рта, улыбалась. На её коленях я заметил бумажный клочок, сложенный пополам. Взяв его, я прочитал:
«Любопытство – грех, сеньор следователь»
Эти слова эхом отозвались в моей голове. Ночь выдалась изматывающей – каждая клеточка тела молила об отдыхе. Но сон не шёл. В памяти снова и снова всплывали детали происходящего: зловещая улыбка куклы, таинственные шорохи наверху, загадочная записка.
К утру я всё же сумел привести себя в порядок, хотя тёмные круги под глазами и пульсирующая головная боль напоминали о бессонной ночи. Быстро собравшись, я направился в участок.
– Ты выглядишь на двадцать процентов хуже, чем вчера вечером, Рамон, – с привычной иронией произнёс Карлос Моралес, едва я опустился на стул напротив него. – Полагаю, дела с расследованием идут не столь удачно, как хотелось бы?
Я налил себе кофе, чувствуя, как дрожит рука, и, не поднимая глаз, рассказал ему о ночных событиях: о кукле, сидящей в кресле моего отца, о записке, найденной на ее коленях, о странном ощущении, будто кто-то стоял у меня за спиной, пока я ее читал.
Товарищ слушал внимательно, по временам сдвигая брови к переносице.
– Я бы порекомендовал тебе отстраниться от этого дела, – произнес он тихо, не отводя глаз.
– Я не могу и не хочу пренебрегать своей работой.
– Может, ты и заслужишь себе место в небе за свои благие поступки, но расплачиваться за это придется здесь, на земле. Час расчета уже близок, ты же сам видишь, – он испытующе посмотрел на меня.
– Думаешь, кто-то хочет меня убрать?
– Думаю, кто-то стоит с двадцатью скальпелями у пояса и дышит тебе в затылок.
– А если меня просто хотят запугать?
– Ты можешь быть не из пугливых, – следователь покачал головой, – но потом не спрашивай меня, почему очнулся в психиатрической больнице.
Я рассмеялся над его горячностью.
– Мне кажется, ты прав, – сказал я. – Но то, что пропадает шестилетний ребенок и то, что с ним могут или уже сделали, слишком беспокойно для меня, слишком связывает меня, – мой голос прозвучал громче, чем я рассчитывал, и это произвело ошеломляющее впечатление на нескольких молодых полицейских за соседними столиками – они уставились на меня в молчаливом изумлении.
– Если бы я был какой-нибудь хорошенькой женщиной, я бы тебя полюбил, друг мой. Женщины любят крутых парней, – хмыкнул Моралес.
– Ты обещал мне узнать насчет анализов. Что там по крови на стенах и отпечатках?
– Я узнал. Только не уверен, что тебе это понравится, – он устремил прямо на меня свои темные загадочные глаза.
– Говори.
– Хорошо. Во-первых, кровь человеческая. Мы нашли две разные группы: взрослая и детская.
– Диего?
Карлос пожал плечами.
– Вероятность совпадения – девяносто процентов. Но образцы старые, анализ точным не назовешь. Есть и другое – кое-что, чего я не понимаю. – Он понизил голос, наклонился ко мне через стол. – Следов слишком много. Крови было явно больше, чем могла потерять жертва без летального исхода. Будто кто-то специально окропил все помещение.
– Инсценировка? – спросил я.
– Возможно. Но отпечатки… – он снова замолчал.
– Что с ними?
– Среди множества смазанных отпечатков есть один. Четкий. По базе – принадлежит настоятелю приюта.
Я раскрыл глаза шире.
– Отец Рафаэль месяц как в отъезде.
– Он мог уехать в день исчезновения мальчика. Проверенная информация?
– Из уст монахини Люсии.
Карлос откинулся на спинку стула, наблюдая за моей реакцией.
– На твоем месте, я бы проверил и святую Люсию. А заодно – где именно этот святой отец проводит свой «отъезд». Даже в Ватикане грешат чаще, чем черти.
Не теряя ни минуты, я направился в монастырь. Осенний воздух был прохладным и влажным, а небо над головой затянуто свинцовыми облаками. Каждый километр пути тянулся бесконечно долго, словно невидимая сила пыталась удержать меня, замедлить моё продвижение.
Добравшись до ворот монастыря, я остановился на мгновение, собираясь с мыслями. Затем решительно постучал – три чётких, уверенных удара. Звук разнёсся по округе, нарушая тишину, и в ответ на мое несколько резковатое: «Полиция! Откройте!» – сестра Люсия приоткрыла створку.
– Я думала…
– Не думайте, – прервал я ее резко. – Это дурная привычка. В наше время никто не думает. Люди не могут выдержать этого, их головы слишком слабы. Только начать думать – и основы общества рухнут; кроме того, думать – работа скучная, она препятствует верить в Бога. Вы же верите в Бога? Кстати, не хотите избавить свой дух от мрака?
– От какого? – воскликнула она с некоторой горечью.
– Впустите меня, и я скажу вам это в стенах монастыря, или вам удобнее, чтобы я арестовал вас за дачу ложных показаний и отвез прямиком в участок? – Меня впустили. Я молча следил за служительницей и за тем, как она крестится. – То, что я скажу сейчас, – продолжал я почти меланхолично, – покажется вам прозрачным и само собой разумеющимся, но в этом лежит прозаическая истина: чтобы служить в монастыре и работать с детьми, вы должны обладать чистой душой и любить детей. Очень вероятно, что вы детей не любите, раз покрываете своего настоятеля, который может быть замешан в исчезновении ребенка.
Мой спокойный убедительный тон раздосадовал духовную деву.
– Вы считаете меня за бездушной лгуньей? – воскликнула она. – Вы ошибаетесь, сеньор полицейский: я рассказала вам правду… И я хочу защитить детей!
– В стенах вашего сиротского дома – сотня несчастных, когда-то умирающих от голода девочек и мальчиков, – сказал я тихо. – Возможно, они уже помышляют о самоубийстве, потому что не видят надежды ни в этих стенах, ни за ними. Не от кого ждать ни сочувствия, ни защиты. Чувствуете ли вы ответственность за их жизни, сестра? Чувствуете ли вы, к чему приводит ложь? Попробуем еще раз? Когда уехал настоятель Рафаэль и где он пребывает на данный конкретный момент?
Она не ответила; впервые мои правдивые слова рассердили ее главным образом потому, что они были истинны.
– Увы, сеньор полицейский… – прошептала она наконец, и в голосе дрогнула усталость. – Я не знаю.
– Тринадцатого октября, – продолжил я тем же спокойным тоном, – из вашего сиротского дома пропал ребенок. Это был только первый бедный ребенок. Заметьте: только первый. Даю вам гарантию – совсем скоро вы прибежите в полицию с криком, когда увидите, что еще одно маленькое тельце не лежит на своем месте в вашей божественной обители; и зал молитв превратится в безобразную, окровавленную кучу. Я не желаю морализировать. Я лишь предупреждаю вас о том, что может случиться еще один «печальный случай», подобный тому, что уже имел место. Я убежден: вы сейчас ничуть не скорбите ни о ребенке, которого, как я подозреваю, похитил священник, ни о себе – о той, которая вдруг решила защищать возможного преступника. Не просите меня верить в ваше сожаление о Диего: я знаю, что его нет в вашем сердце и за это вы будете гореть в преисподней.
– Следуйте за мной, – замялась она, медленно шагая вперед и приглашая меня в тайное помещение для разговора наедине. – Наше святое убежище переживает хрупкий и чувствительный финансовый период. Сейчас мы скорбим и содрогаемся… может быть, даже кричим от негодования и в припадке отчаяния простираем руки к богачам, потому что – еще немного, и нам всем будет нечего есть, – она открыла ключом дверь и мы вошли в крошечную келью без окон. – Простите, если я кажусь вам упрямой, – произнесла сестра Люсия, перекрестившись перед образом девы Марии. – Падре… действительно уехал в день исчезновения Диего… но только потому, что ему необходимо было просить помощи… просить милосердия у одного влиятельного миллионера, – она перевела на меня взгляд и добавила с жестом, в котором чувствовалось почти покаянное смирение: – Но я уверена, он ни в чем не виноват. Он не похищал Диего. Мне досадно, что вы так думаете о добром человеке, но понимаю, все играет не на его пользу.
Сестра Люсия закрыла за мной дверь на железный засов и села на стул с высокой спинкой. Я сделал тоже самое. Ее поза теперь выражала глубокую меланхолию; она закрыла глаза рукой, пытаясь заслониться от слез.
Я пожалел о том минутном раздражении, которое испытал к ней – за то, что она боится сказать мне правду, – и слегка коснулся ее другой руки.
– Не грустите, – сказал я мягче. – Я боюсь, что ваше уныние заразительно. А уныние ведь грех, не так ли?
Я отнял руку. Она подняла взгляд – глаза ее были удивительно большие, лучистые. На миг мне показалось, что передо мной не послушница, а женщина из плоти и крови, хрупкая и прекрасная.
– Правда, – вздохнула сестра Люсия, – уныние это грех. Возможно, именно поэтому жизнь казалась мне ненавистной… как она, в сущности, ненавистна всем.
– Что вы имеете в виду?
– Задолго до того, как дать обет, – сказала послушница тихо, – я была «ночной бабочкой»… выставленной как пример грязи и зла перед удивленными глазами людей, занятых только своими собственными делами и амбициями. Каждый думает лишь о себе, и мало кто обратит внимание на человека, носящего на шее петлю. Как представительница прекрасного пола, я привлекала мужчин, зарабатывала деньги своим жеманством… но, быть может, не заслуживала милости Бога, была недостойна его благословения. Я никогда раньше не встречала отца Рафаэля. А он видел меня только издали. Очевидно, наблюдал за мной, а потом пригласил в комнату одного придорожного мотеля… но не в ложе, а чтобы познакомиться с моей загубленной душой.
– Серьезно? – спросил я внезапно.
– Совершенно серьезно. До этого клиенты всегда вредили мне: издевались физически, накачивали алкоголем, плевали в лицо после совершенных любовных утех. Особенно я презирала мужчин за то, что им дана громадная сила, а они растрачивают ее на женщин и не используют там, где она была бы по-настоящему нужна. Они были вульгарны и пошлы – это возмущало меня, но я ничего не могла поделать: нужно было как-то глотать боль и зарабатывать на лекарства больной матери. Падре Рафаэль был другим мужчиной – более сердечным. Он внушил мне уважение, показал, что женщины – не предмет без души и имени, а матери человеческой расы, – на миг она погрузилась в мысли. – Все в мире совершенно, говорил мне падре Рафаэль, кроме одного любопытного творения природы человека. Он единственная ошибка, единственное несовершенное создание Бога. Но именно потому он заслуживает прощения. Падре Рафаэль принял меня в приют святой Долорес такой, какой увидел, – без осуждения. Он помог моей умирающей матери… взамен лишь попросил, чтобы я посвятила остаток жизни детям и религии.
– Сестра Люсия! – послышалось где-то в коридоре.
Она вздрогнула, встала и поспешно направилась к двери.
– Клянусь небесами, падре Рафаэль – человек благочестивый. Но… у него большие проблемы, вы должны ему помочь.
Дверь открылась и быстро закрылась; она ушла. Я остался один, размышляя, что за странное существо эта женщина – какое причудливое смешение философии и чувств струится в ее натуре, будто пятна на солнце, – через ее изменчивый, тревожный темперамент. Случайно появившаяся в моей жизни, она стала для меня загадкой и – возможно – моим другом. Только дважды, считая сегодня, мы пересеклись, и только сейчас я приблизился к тайне ее подлинной сущности. И, признаюсь, я начал восхищаться ею – этой некогда падшей женщиной, которая сумела возродиться из мрака. Без ее присутствия моя жизнь казалась бы лишенной половины своей прелести. Из всех тех, кого принято называть «друзьями», вокруг меня почти не осталось никого. И, быть может, ни к кому я не испытывал такой искренней симпатии, как к ней – этой серьезной, пугливой даме, в которой было что-то от света и от тьмы, и на которую я, сам того не желая, начинал смотреть с нарастающим трепетом… похожим на любовный.
О проекте
О подписке
Другие проекты
