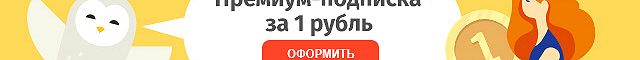
– Так что насчет себя – как знаешь, сынок… – говорила напоследок мать.
IV
Когда Антон позавчера, еще полусонный, сел в крытом кузове посреди светлевшей глуши леса – где-то восточнее Зубцова, где пришлось им троим заночевать, и когда он, обхватив руками и прижав к подбородку колени, продолжал еще не то дремать, не то думать о чем-то, не то созерцать все по-мальчишески в дреме, – в его сознании строились видения будто бы подлинных событий прошлогодних. Да, именно: из лета сорок второго. И он даже порадовался сам с собою оттого, что они, стало быть, уже давно прошли и что самое тяжелое окончилось. Так определенно верилось. Но, впрочем, оттого Антон не встрепенулся, не вскочил на ноги, не закричал самому себе: «Солнце, солнце всходит»! – едва сверху, навстречу ему, золотистыми брызгами окрасились вздрогнувшие тучные макушки деревьев, точно живительный ток пробежал по ним вместе с пахнувшей волной рассветной прохладой, и когда еще веселей вокруг засвистали, защелкали птички.
Руководивший с вечера разворотистый, уверенный в себе сержант Пехлер сразу не сказал, зачем едут; он только сердито-сумрачно бросил на ходу, когда брал его с собой:
– Собирайся, Антон, машина ждет! – Он словно хотел (и вполне мог) за какую-то неизвестную покамест ему провинность – сбыть его куда-то с глаз долой, не иначе, – вроде б дулся и косился на него целый день беспричинно. Поди, догадайся, отчего… Правда, и разок все-таки прорвалось у него сквозь зубы: – Ну, и подвела ж меня мать твоя, а я понадеялся!.. – Но больше ничего определенного не сказал – молчок. В чем же суть всего, что он посумрачнел?
Здешний лес, куда они заехали вчера почти затемно, был заселен военными частями; кое-где за стволами сосен, берез и елок виднелись грузовики, начиналось редкое движение людей.
– Сергей! А Сергей! Это я! Погоди! – отчетливо услыхал Антон из своего чудного прибежища приглушенный ранний, но свеже-юношеский голос, позвавший, вероятно, товарища. И вслед за тем увидал, как худенький темноволосый, в шинельке боец легко-подвижно и как-то любовно переступая через сучки и мелкую поросль, приблизился к ожидавшему его вблизи их крытой автомашины высокому, большеголовому и светловолосому здоровяку в фуфайке с солдатскими погонами. Поздоровался с ним торопливо:
– Наконец-то! И как мы разошлись накануне? Ну, мы не договорили…
И удивительный, между прочим, разговор повели, для чего названный Сергеем, расставив шире, вывернув наружу носками, свои крупные ноги в ботинках и обмотках, ровно создавая себе большую опору на земле, уставился с некоторой ухмылкой на остановившего его:
– Извини, Павлуша, я-то думал: ты увлекся там – сестричке Миловой помогал, – кивнул он в сторону темневшей палатки. – Что, ошибся? – В силу ли своего внушительного вида или полученных когда-то званий, или молодости с ее бескомпромиссным суждением обо всем, или же каких иных умственных способностей, он, видимо, все же был не лишен тщеславия и отчасти проявлявшейся надменности.
– Нет, почему же… Верно: помогал я… Только по-товарищески…
– Ох, зря это!.. Говорил ведь: да, девчонке тяжело быть на войне, среди мужчин… Немудрено. Тут в одном даже походе пока допрешь заячьей прытью, куда нужно, – с тебя сто потов сойдет… – Сергей, по всей видимости, любил всегда на людях поучать и морализировать открыто, громко, чтобы все его услышали. – Притом она сейчас геройствует, может быть, из-за тебя, запомни. Поскольку нравишься ей.
– Сергей, прошу я…
– А ты, знай, ладишь свое: товарищеская дружба… Знаем, знаем мы ее!..
– Опять прошу тебя, Сергей: давай не будем говорить о том. Как можно?! Ведь не закажешь сердцу своему. Повторяю: у меня невеста Нина дома есть, часто переписываемся с ней; не рассудочно, как ты говоришь, – нормально любим мы друг друга. И пока я… – Павел перевел дыхание, – пока я тут, не изменит она мне…
– Да то не увидишь, дорогой Павлуша! Не ручайся. – Сергей улыбнулся сожалеющей улыбкой. – Сколько времени дружил-то с ней?
– Почему «дружил»? И сейчас… Четвертый год.
Сергей присвистнул удивленно. И спросил, почему же не женился? Она не взяла? Ведь не убыло б ничего…
Однако Павел стойко защищался. Произнося слова, он и закрывал на мгновение глаза (верно, не хотел видеть пафос друга в выражении его лица – достаточно было слышать), мотал головой и разводил даже руками, как будто этим самым говоря тому, что ему-то наперед известно его неодержимое упрямство в споре, но что, несмотря на уговоры бросить свое фантазерство в жизни и хотя бы поухаживать всерьез за Леночкой, которая почти без ума от него, Павлуши, – он отказывался поступить не по совести. Нет, нет, не в его манере это. И было что-то естественно-милое в его негромком, но решительном отказе сумасбродным идеям товарища. Он, должно быть, чувствовал себя с ним и как более взрослый с ребенком и в то же время как ребенок со взрослым, но только славный такой ребенок.
– Позволь, завтра, может быть, убьют нас, – привел как бы неотразимый аргумент Сергей. – Так отчего же не воспользоваться напоследок тем, что рядом с тобой находится? – И он засмеялся баском наигранно. – Ты слишком интеллигентен весь, во всем, я замечаю. А надо бы за горло брать, не отпускать… Лишь тогда и сам выстоишь в этой неслыханной кутерьме…
– Для чего, не понимаю, говоришь? Сам-то понимаешь что-нибудь? Отчего ты так раздражен? – Уже запротестовал Павел против грубых, вывороченных наизнанку чувств советчика и чуть не задохнулся от подступивших к нему негодования и волнения.
– Потому что так было у меня: дали от ворот поворот, – сказал тот яростно, с дрожью в голосе, – так что на собственном опыте, так сказать, проверено. Далеко за примерами ходить не нужно.
– Я тебе, конечно же, сочувствую… Но за что же обижать других?
– Они, по-моему, все такие, стоят друг дружку; невеста, попомни, посмеется над тобой, и ты с ума сойдешь…
– Нет, никогда того не будет.
– Извини, да она, она, должно быть, как и эта твоя Леночка, друг, может ответить при случае взаимностью не тебе, а какому-нибудь еще суженому… – И Сергей, бледнея, пошел себе.
– Да это ж подлость, что ты сказал! А я-то впрямь дурак, что еще разглагольствовал с тобой обо всем. Нет, ты… посмотри на него, пророка…
Но тот, мрачно насвистывая что-то, уже уходил размашистым шагом прочь, в чащу. И тут во сне вскрикнул, промычал обычно спокойный солдат-шофер Терещенко, спавший сбоку Антона в кузове, как и сержант. Павел, не договорив, с удивлением обернулся на вырвавшийся вскрик, было осудительно глянул на Антоново лицо, глазевшее в брезентовом проеме, но только приветливо махнул рукой и удалился тоже. Растворился в чаще леса.
Деревья тревожно затрепетали листвой в вышине.
Озабоченно-хмуроватый Пехлер, проснувшись, зевнул, встал, выбрался наружу и деловито засновал туда-сюда, в новеньком ватнике; он ворча подгонял поднятого Терещенко, велел заводить мотор, испытующе-неодобрительно поглядывал на Антона. Но Антон ни о чем не спрашивал у него: что спрашивать напрасно? Все равно не скажет ему, почему сердит. Да и решал он сейчас вопрос с самим собой – очень важный. А именно спрашивал у себя: «Смогу ли я прикрывать собой других? Не испугаюсь ли, главное, когда нужно будет действовать? Сколько в моей жизни небольшой уже было довольно неприятных минут – и ведь не могу не признаться себе, что мне было очень-очень боязно порой, а порой азартно-весело на краю, считай, обрыва, только и всего. Но главное же чувство – желание во мне было то, что не хотелось мне со стороны смотреть на все, а скорее самому участвовать в самом деле совершавшегося – самого значительного, что я видел, и увидеть все то до конца победного, когда все останутся жить, – все ждали того, ощущали в нем первую потребность, торжество свершения наивысшей справедливости».
– Ну, теперь порядок полный, можно жить, – удовлетворенно проговорил Пехлер, вытирая ладонью пот со лба из-под фуражки, после того как они погрузили в кузов мешки с буханками пахучего, только что испеченного хлеба, который получили по договоренности из воинской пекарни. И, показалось Антону, разом согнал с лица хмурость, больше не косился на него и миролюбивей был с шофером. Как же, ведь надо было ему накормить людей, – он за это отвечал.
Да, хоть мать и говаривала Антону обыкновенно так, она все-таки, чувствовал он, полагалась теперь целиком на его правильный выбор. А это, в свою очередь, заставляло его собрать свою волю, собраться с решимостью, духом. Недаром он оставался за старшего мужчину в семье. Без него ничего бы дальнейшего и быть и не могло. Как бы то ни было, закончился первый период его испытания в новом для себя качестве – он его выдержал-таки, можно сказать; ему должно быть впредь легче, проще. Он значительно повзрослел за короткий период – может быть, чувством дома, родины и чувствовал каким-то особым чутьем, что у него уже нет возврата к прежней жизни в семье. К лучшему ли или худшему то было, неизвестно. А междупутья не было. Более чем месячный срок отделял его от первого разговора о том, ехать ли или не ехать ему с прифронтовой военной частью; за это время многое улеглось, определилось как-то само собой. Пусть и не безболезненно для него. Он сам шел навстречу своей судьбе – и будет за нее в ответе; и больше никто – даже тетя Поля, его друг, и взрослая сестра – не могли быть ему советчицами и успокоителями.
Да, мудр человек, по-отечески устроивший для Антона эту последнюю проверку – свидание с матерью.
Обратно он шел уже с убежденно-твердым решением, более чем когда-либо убежденный в том, что поступил совершенно верно.
V
Затянутый в портупею, чопорный рослый капитан Шведов, штабной работник, уверенно подошел к автобусу «ЗИЛ», уже стоявшему загруженным на исходной для выезда из привычного березника позиции. Он заметно был тоже в слегка приподнятом настроении – оттого, что, главное, начинались существенные фронтовые перемены, что вследствие их наконец стал возможен новый переезд Управления и что он, серьезно-строгий капитан, назначен ответственным за предстоящий рейс поближе к фронту. Радость вполне естественная для всех. В салоне автобуса, полузаполненного разным имуществом сослуживцев, было несколько человек. И, садясь в свободное переднее кресло, Шведов для начала охотно объяснил, что все автомашины – поедут порознь. Ради наибольшей безопасности в пути. Такой приказ командира. Потому-то и делается скрытно ночной переезд – чтобы не попасть под прицельную бомбежку…
– Ну, двигай, – сказал он шоферу Чохели.
Да, так случалось часто, первая же заминка тотчас, не успели с места стронуться, приключилась с автобусом, потяжелевшим от загрузки: заведенный, с включенной скоростью, он на маленьком пятачке среди березок буксовал колесами и увязал в сочно-рыхлой, чересчур податливой почве, которая качалась, пружиня, под ним. А вокруг оплывшие окопы, воронки, рваная колючая проволока… Так что все снова вышли из автобуса. И, кстати, вовремя. Так, мужчины, подкидывая под его задние колеса сучья, палки, заметили рядом в траве (словно специально подложенную), темную дисковую противотанковую немецкую мину. Значит, при недавнем прочесывании здесь саперами подорваны были не все заложенные мины – остались еще незамеченные. Они могли при неосторожности взорваться в любой момент. Тем не менее ни Чохели и ни Стасюк, увидавшие коварную мину, отнеслись к этому спокойно, как к самому заурядному явлению на войне. Только Чохели тихонько сказал:
– Без паники! Без паники, ребята! – И, негромко насвистывая, старался аккуратно вывести автобус из опасного места.
В эти минуты женщины – Анна Андреевна вместе с розовощекой дочерью Ирой, майор медицинской службы Игнатьева и капитан, стоя в сторонке, как ни в чем не бывало, разговаривали весело.
Антон слышал голос Игнатьевой:
– Внешне каждый может быть очень приятным, симпатичным. Но только глаза выдают какую-то черточку характера. Помню, у нас в школе один учитель – историк был – страшный, просто-напросто безобразный, нос у него расплылся во все лицо, насупленные сросшиеся брови. По-первости, когда он взглядывал, нам, ученикам, страшно становилось; потом, когда весь класс привык к нему, таким чудесным человеком он оказался, с каким чудным, ослепительным взглядом из-под густых бровей! И наоборот: знала я другого мужчину. Был он прекрасно сложен: торс, высокая шея, бицепсы, походка – все есть, на месте, – ну, красавец! Но вот глаза-то у него были непереносимы – рыбьи, и только. И по-рыбьи блестели. И это все портило. Понимаете?..
Удачно вырулил Чохели автобус из кустов, остановил его и пригласил всех снова в салон.
– А что ж с миной будет? – спросил я у Стасюка. – Может, еще минеры взорвут ее? Ведь кто-нибудь и не заметит…
Стасюк прокашлялся.
– Теперь всю землю надо чистить, вычищать от этого добра… Постой-ка, ты куда? Назад! Не тронь!
– Да я хоть траву вокруг нее пригну – открою дуру… – сказал Антон.
– Напугал меня, стервец, – отходчиво проворчал на него Стасюк после.
– Малость знаю, что к чему, – оправдывался Антон. – Уж научен…
Березки, расступаясь и блестя листвой, промельтешили перед окнами автобуса, ветки слышно проскользили по его обшивке, и очень скоро он очутился на открытой накатанной грунтовой дороге. Поездка началась.
Антон испытывал особенное нетерпение: словно на иголках сидел или, точнее, полулежал позади всех, на сложенных матрасах и мешках, занимавших пол-автобуса. Переговариваясь во время движения с Ирой, со все возрастающим волнением следил за дорогой, стараясь определить по всяким признакам, в нужном ли ему направлении они едут – на абрамковский ли тракт… Почему-то он предположил, что наверняка последуют под Вязьму через Ржев, именно по большаку, проходившему близ родной деревни. И в таком заблуждении пребывал сначала, пока с огорчением не обнаружил, что наивно ошибся. Судя по всему, автобус катил по иной – незнакомой ему местности; стало быть, сразу же направились – фактически из-под города Зубцова – южней, по другому большаку, верно, более безопасному для них.
Вечерняя заря, полыхая и медленно угасая из-под барашек неразогнанных облачков, играла над густевшим синью лесом, над холодно мерцавшей речушкой и меж близких коряво-кряжистых переплетений чернеющих стволов и суков деревьев, выбегавших гурьбой либо одиночно навстречу автобусу (Антону иногда мерещилось, что они точно так же, как и люди, могут, если это нужно им, принимать тот или иной образ и даже свободно передвигаться, и уж, конечно, так же поглощено думать о чем-то, подремывая). Тени сгущались, заволакивая все в сказочной задумчивости, таинственности и бесконечной глубине.
Сбился счет времени, и пропало чувство реальности.
Наступавшие сумерки быстро поглощали все вокруг, скрадывалось расстояние; светозамаскированные фары автомобильные почти не выхватывали из темноты ничего, лишь неровную, разбитую всю дорогу. Все в салоне колыхавшегося автобуса уже подремывали, сладко позевывая, а кто и откровенно посапывал. Но Антону еще не спалось, и он все также полулежа на тюках, одеялах и матрацах, по которым помаленьку – под влиянием инерции и их утрамбовки – сползал, почувствовал себя будто даже в одиночестве.
VI
На одной из вынужденных ночных остановок, сблизившись, впритык встали за крытой полуторкой. Снаружи послышался из-за равномерного шума двигателя чей-то хрипловатый густой голос. Дверь автобуса открылась и, всунувшись в нее наполовину, Терещенко, шофер этой полуторки, громче обратился с вопросом:
– Может, кто желает пересесть ко мне? Желающие есть?
Разбуженные пассажиры молчали недовольно, ничего не понимая толком.
– Может, разве что Антон, – сказал кто-то.
– Ну, давай, Антон, дуй ко мне в кабину, а? Место у меня освободилось.
– Да, – обрадовался Антон возможности продолжить путешествие непосредственно в кабине: его как магнитом тянуло в особенности к военным шоферам, людям, причастным к столь благородному и мужественному своему ремеслу, к которому ему тоже хотелось приобщиться. Но с беспокойством он как бы испросил разрешение и совет у своих возможных опекунов, с кем находился в автобусе: – А это можно будет?
– Если только тебе хочется, Антон; ты иди – ты от нас не потеряешься, – спросонок разрешил его сомнения бывалый солдат Стасюк, чтобы побыстрей с этим кончить. – Лезь сюда! Что, пролез?
– Все в порядке. – В момент Антон вполощупью вышел наружу.
Над чутко задремавшей местностью выкатывалась круглая медная луна, светившая призрачно, красноватым светом, что из-за чего он вблизи уже различал черты Терещенко.
– Идем, залезай, – оживленно говорил ему новый покровитель. – Капитан мой, понимаешь, перебрался в кузов – лег на боковуху. А мне одному негоже ехать. Собеседник нужен. – Непонятно, шутил он или нет. – С тобой, глядишь, повеселее станет, так? Ну, забрался? Дверцу хорошо закрыл? Дай проверю…
Прильнув к ветровому стеклу и зорко, как ночница-сова, всматриваясь вперед, Терещенко хватко держал и крутил мускулистыми руками руль и одолевал, где нужно, невеселые разводья российской дороги. И клял ее при случае. Незлобливо. Привычным уже образом. Про себя.
Его полуторка была изрядно изношенной, помятой, латаной не раз: она вместе со своим хозяином, не страхуясь, перебывала уже в многочисленных военных похождениях; в кабине ее пахло бензином, а пообтертое расшатанное сиденье прыгало под Антоном и скрипело разболтанными пружинами. Но она, и груженая, довольно легко преодолевала все препятствия. Служила ему. Слушалась его.
– Бачишь, яка езда? – словно думая о том же, проговорил, не отрывая взгляда от дороги, Терещенко. – Вот дурна.
У Антона ж невольно вырвалось, напротив, с восхищением:
– Вижу. Как же вы – вы все шоферы – ночью водите машины? Я не представляю… Зрение кошачье нужно ведь.
– Не кошачье, а обыкновенное человеческое. Такая уж привычка выработалась в нас, водителях.
– И здоровье нужно. Ведь недосыпаете…
– И к недосыпанию привычны мы. Пока еще молод, еще силы есть. Но война же и не век, поди, продлится? Будет праздник и на нашей улице. А як же… Будет! На гражданке шоферить – крутить баранку в односменку – куда ни шло. Добре дело. Каждый скажет. И я его не променяю уже ни на что. Ни трошки. Руль из рук своих не выпущу, пока жив. Это точно. Везде ты на колесах быстрых колесишь – любо-дорого; мигом туда-сюда скатал. Столько видишь всего! Кругом друзья-товарищи. Ни с чем не сравнишь нашу профессию. Всюду и всегда мы людям нужны. И робишь себе все равно что вольный казак. Себе в удовольствие.
– Понимаю… На совесть. – Антон ему завидовал, его профессии.
– Однако ж в нашем деле нема мелочей. Треба очень тонко применять сноровку и осторожность, где проскочить, а где и уступить – трошки ставить глаз: среди нашего брата тоже есть лихачи. – И он тут же взвился, что ужаленный: – Вон, бачишь, как он пронесся мимо нас, сломя голову. Куда? Пошел вдруг в обгон. Чего он? Чи шальной? Сдурел? Як бык бодучий попер…
Так по-бывалому, рассудительно, незлобливо комментировал – с хрипловатым певучим тембром голоса – Терещенко за рулем, комментировал все, что ни касалось его и разговора с Антоном, текущего, как и дорога ухабистая, медленно, будто в рассрочку. Антон с ним договорились уже до того, что он может, только захоти, также научить его вождению автомобиля.
Диковинно под желтоватым лунным светом белели в отдалении какие-то большие наземные шапки, выросшие здесь, посреди черной взрыхленной земли и зелени, кажется, совсем недавно. Лунный свет увеличивал их размеры. Но постепенно Антон догадался, что это были доты, расставленные с промежутками, ровно стражники.
В эти августовские дни 1943 года, он заметил, между прочим, и по разбитому дотла Ржеву – и тем был поражен – усиленно строились укрепления, амбразуры, доты, оборудовались огневые точки. Верно, на непредвиденный случай: ведь это было все-таки в двухстах километрах от Москвы… В войне, затеянной сильным и жестоким врагом, приходилось очень многое учитывать…
Бесплатно
Читать книгу: «Свет мой. Том 3»
Установите приложение, чтобы читать эту книгу бесплатно
О проекте
О подписке
Другие проекты
