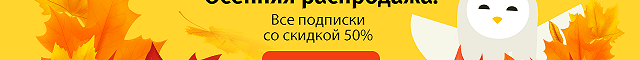
Приглянулся он Потёмкину поначалу исключительно по причине феноменальных фехтовальных талантов. Светлейший впервые увидал Сеньку в рубке под стенами осажденного Очакова. С двумя саблями в руках, сеющий смерть в радиусе семи метров вокруг себя, он реял, как взбесившийся Ангел смерти… После взятия Березани Потёмкин представил «корифея рубки», как он его прозвал, к награде, и взял к себе в окружение. Раза два в неделю давал ему Сенька уроки рубки на казацких саблях. Именно тогда-то и осознал окончательно Потёмкин преимущество кривизны клинка сабельного над прямотой палаша немецкого, введенного на вооружение ещё при императоре Петре Алексеевиче. И немедля начал перевооружение российской конницы и, особливо, полевой пехоты, ибо до этого времени у пехотинцев на вооружении состояли шпаги с тесачными клинками, не имевшие никакой практической пользы, особенно в пешей рубке с турками.
Атака на вооруженную руку – это самый простой способ закончить бой. И турки об этом прознали давно. А от них и казаки. Делается это концом клинка, кистевым броском – так учил Светлейшего Сенька. Рукоятка должна лежать в кисти, как пойманная птичка. Прижмешь – задушишь, расслабишь – улетит! Расслабление при замахе и мгновенное напряжение при касании. Так и удар быстрее будет…
Любое оружие при нанесении рубящих ударов, под действием центробежной силы, стремится «вырваться» из руки. Поэтому, чтобы боец мог дольше наносить рубящие удары даже в состоянии усталости, конструкция рукояти рубящего оружия настолько изобретательно изощрена. И для защиты, и для эффективного хвата. Но для пешей «свары» иной раз, когда противник защищен кирасой, к примеру, работает лучше всего жесткий хват, «молотковый», когда сабля – как бы продолжение руки…
Во время уроков по «биомеханике сабельного боя» разрешалось учителю – Сеньке, прозывать ученика – Потёмкина – «пан Грыцко».
Общение между ними обычно шло на одном из разговорных диалектов многонациональной Сечи того времени, вобравшем всё разнообразие лексикона ее разношерстных обитателей… На «казацком» языке…
– Глянь на энту польску шабелюку, пан Грыцко… Глянь, як вона збалансована, а вернейше сказать, выверена, для замахов… Особливо с плеча и с локтю. То дюже добре для пешой рубки… Глянь сюдыть… кысть не працуе зовсим… Працуе тильки плечо да передплеччя трохи… Хват у энтой польский корабелы таков, шо в руце вона не вовтузится, а сидит жестко… Молотковий хват, бо розрахован на молотковий удар по пешому противнику. Тут, пане, потребна сила, ниж швидкость…
За три века запорожцы набрали в свой арсенал почти все виды и восточного, и европейского оружия, но самым употребляемым, да и почетным, конечно же, было оружие холодное. Правда, далеко не всякое. Предпочтение для «свары в поле» отдавалось классической казацкой сабле. Но заветной мечтой всякого запорожца была, конечно же, королева сабель – польская карабела, богато украшенная, с рукоятью в форме орлиной головы, с загнутым вниз набалдашником, удобная и для фехтования, и для круговых ударов, и для пешей рубки. Ежели знаешь, как рубить по правилам казацкой сабельной науки…
– Рубаемо, пан Грыцко, рубаемо силнейше, а то ж пан не рубаеть, пан по дупе дивчачьей долонькою гладить…
Говоря о «девичьих дупах» и других аспектах женской анатомии, мастак был Сенька по этой части изрядный. Хотя, будучи истинным порождением Сечи, со всеми ее законами, легендами и ритуалами, которые он свято соблюдал и поддерживал, женат не был. Всегда предпочитал мужское сотоварищество женским утехам. Но стоило ему поднять свои бирюзовые в оправе черных ресниц очи, как все без исключения бабы и дивчины начинали тихо таять. Даже страх перед мордой его нерусской и страшно-угрюмой уходил куда-то. Видать, слово особое знал казак, «петушиное»…
Увидев Цейтлина в первый раз разгуливающим по лагерю в длиннополом кафтане, в меховой шляпе – штраймле, с окладистой бородой и пейсами – ну, прям еврей, «евреее не бывает», Сенька встал как вкопанный и, выкатив свои глазелупы, присвистнул:
– Тю… так тож справжний жидяка буде…
Ему объяснили, что Цейтлин тут занимается важными делами, по сути дела обеспечивая логистику армии, и приближен к Потёмкину до невероятности. Но поверить в это до конца Сенька, хоть убей, не мог, и при случае старался Цейтлина как-нибудь да поддеть.
Не то чтобы он, запорожец, в своей жизни не видал евреев… Перевидал их Сенька предостаточно, и в Сечи, и около. Но то были либо принятые в Сечь, отпетые и большей частью выкрещенные буйные головы – бандиты и головорезы под стать остальной братве, либо шинкари и торговцы, промышляющие средь казаков или ведущие торговлю розницей в предместье Сечи, называемом «сечевой базар». Первые немногим отличались от остальной многонациональной мешанины Сечи. Вторые же имели характер робкий и вели себя тихохонько, не высовываясь, ибо боялись напороться на неприятности, спектр которых варьировался от грабежа и побоев до смерти, подчас очень жестокой и мучительной.
И с теми, и с этими ему было всё понятно…
Но Цейтлин, свободно разгуливающий по лагерю с превеликой важностью в своей одежде, вызывал у Сеньки наисерьезнейшее раздражение – не вписывался он ни в одну из вышеупомянутых категорий…
Каждый раз, проходя мимо Цейтлина, Сенька, как бы невзначай, жестким, как железо, плечом старался притереть его к стенке или ещё как-нибудь прижучить. Однажды, увидев эту сцену, Светлейший решил восстановить статус-кво по-своему. Подъехав верхом к казаку, он слегка прижал его конским крупом к каменной кладке стены.
– Хорошо ли тебе, казаче?
– Погано мине, пан Грыцко, – честно отвечал на сей риторический вопрос Сенька, покрасневший под насмешливыми взглядами случайных свидетелей происходящего, тщетно пытаясь освободиться.
– В Евангелии от Луки, казаче, сказано: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Чи не слыхав?
– Слыхав, – Сеньке наконец-то удалось вырваться из клещей.
– От и добре! – подытожил Потёмкин, – так и роби впредь. Може, в рай попадешь… Хотя я лично в этом глубоко сомневаюсь, – добавил он уже себе под нос.
– Что он тебе плохого сделал, Семён?
– Який же у него безглуздий лапсердак…
– Цейтлин у меня дорогого стоит, казак, а что одет не так, как ты, так на то его полное право как свободной личности, понимаешь? На себя-то давно ли в зеркало глядел? На шаровары свои синие с кунтушом кармазиновым? Да на чуб свой, з яким ты тут шлендраешься, аки индиан чубатый з колоний мериканьских? Али ты думаешь, шо цей наряд варварський в сочетании со своеобразыем прычоски твоий, есть еталон естетики? Однакож, ничого. Мы ж не заперэчуем – потому как это е твое право, як индивыдуума. Лычности… Чубатой, но личности, разумиешь?
– Разумию…
– Эх, тебе бы Вольтера почитать или Канта…
– Яки же у него поганы пейсики! – не унимался Сенька.
Потёмкин подъехал к казаку вплотную, взял за чупрыну и спросил:
– Это чо?
– Чуб, чупрына…
Светлейший, сидя в седле, подтянул слегка Сеньку за чуб, вверх к себе, склонился к нему и пропел тихонько в его украшенное серьгой ухо:
«Чуб козаку для чого? – Як на войне згину:
Мене ангел понесе, в небо за чупрыну…»
Потом отпустил и добавил глубокомысленно:
– Прикинь, – пейсы еврейские, как чуб у казака! И, може, ангелы иудеев в небо за пейсы носят…
А ведь интересная мысль, не правда ли, читатель? Всё ж таки Светлейший был большой оригинал…
– Сенька, говоришь, – повторил Светлейший задумчиво и опять как-то особенно, со значением, поглядел на Цейтлина.
– А ты откуда родом будешь, отрок Сенька, не с Украйны ли, чай?
– Нет, я – коренной ленинградец, со свойственной всем уроженцам города на Неве тихой гордостью произнес Сенька, несмотря на нешуточный испуг, от которого его потихоньку стало подташнивать.
– Коренными бывают только лошади и зубы, – попытался было пошутить Потёмкин, слегка обескураженный его ответом, – и причем тут Лена? Смысл сказанного тобою, отрок, мне неясен. Допросить бы тебя надобно…
Тут Сеньку стало колбасить по-серьезному и от абсурда происходящего, и от холода, который, наконец, полностью пролез под его пальтецо и даже дальше, но более всего от страшного слова «допросить»… Зубы его выбивали барабанную дрожь, и даже будь у него подходящий ответ Светлейшему, он вряд ли смог бы произнести хоть слово.
– Да он, похоже, замерзает! Ажно посинел! Пошли-ка скорейше в дом, пока он нам тут дуба не дал, – внезапно забеспокоился Светлейший, заметив изменения в цвете его кожных покровов.
– Надворный советник, будь добр, одолжи отроку свой соболиный малахай, покуда до дома не дойдем… Господь простит… Пётр Ефимыч, – обратился он к начальнику молчаливых гигантов-гайдуков, протягивая ему Изиду, – на, прими псину на время!
Левретка заворчала было злобно и даже ощерилась, всем своим видом выказывая недовольство происходящим, но Светлейший, показав ей внушительного размера кулак, мрачно промолвил:
– Ну-ка, тихо тут, не то быстро отправлю назад, в кусты…
Цейтлин с готовностью снял свой штраймель, оставшись в черной ермолке, с которой расставался разве что в бане, ибо покрытие головы придает «почтение Богу и препятствует человеку грешить», и протянул его подростку.
– На, прикройся покуда, – нахлобучил Светлейший на Сеньку гигантский головной убор, в котором тот тут же утонул на пол-лица. – Цейтлин, посмотри-ка, по Сеньке и шапка! Извини, избитая фраза, но не смог удержатся. По сути подходит.
– Кстати, – спросил он ласково, одной рукой обняв Цейтлина за талию, а другой потихоньку подталкивая Сеньку в одном ему известном направлении, – давно уже любопытствую, сколько же хвостов соболиных ушло на сооружение этого шапочного шедевра?
– В моем штраймле семь, Светлейший, но бывает так, что и тринадцать, и восемнадцать, и даже двадцать шесть бывает…
Светлейший аж присвистнул от удивления:
– Объясни!
– Число семь – символ совершенства мироздания, – немного торжественно произнес Цейтлин, – в Ветхом Завете, в книге Берешит, это Бытие у православных, сказано: «И завершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые делал…». Семь – святое число, с ним много чего в мироздании связано. Семь цветов радуги, семь нот гаммы музыкальной…
– Септима. Седьмой по счету интервал музыкальный, – подхватил Светлейший, будучи человеком чрезвычайно музыкально образованным, – всё Цейтлин, с семерками я, похоже, кое-что понял и полностью согласен. Семь дней Творения как эталон Вселенной это сильно. Очень сильно. Символики, конечно, и разной другой немало, но сотворение мира – это, пожалуй, главное. Похоже, за всеми семерками сокрыто что-то в высшей степени фундаментальное! Давай-ка мы эту тему потом продолжим… Она зело не тривиальная, не хочу ее на ходу комкать… Мне вот теперь про число тринадцать услышать не терпится! Правда ли, что заколдованное оно? Несчастливое? Ведь и Иисус на Тайной вечере с двенадцатью апостолами сидел…
– Вообще, существует такое понятие, как «трискаидекафобия», сиречь суеверный страх перед числом тринадцать, – обстоятельно начал Цейтлин, – у разных народов разные об этом поверья и легенды. Так, англичане считают, что если за обеденный стол сядут тринадцать человек, один из них непременно умрет. У варягов, в Эддах их, на пиру в Валгалле поссорились за одним столом тринадцать богов. И закончилось это ссорой бога зимы с богом лета. Легенда эта, Светлейший, весьма показательна, ибо есть вечное отражение борьбы зимы и лета, холода и тепла в глазах человека. Всё ведь вертится вокруг солнечного цикла…
– А у иудеев что же… нет этой, как ты сказал, треско-фобии? Или три-ска-едока-фобии? – Светлейший осторожно, по слогам, выговорил мудреное слово, – тьфу ты, язык сломать можно. Чертовой дюжины не боитесь?
– Есть, конечно же, у иудеев суеверный страх, и весьма сильный, но только перед другими числами и цифрами. Но нумерология нами беспредельно почитаема. Ведь познание Всевышнего и творений его невозможно без знания символики чисел и законов их соотношений. А во многие знания, многие печали… Ну, и страхи, естественно. Отвечая же на ваш вопрос, числа «тринадцать» иудеи не боятся. Скорее, наоборот. Ведь в книге Исход дано нам узнать про тринадцать качеств Всевышнего, про тринадцать мер милости Господней!
Нумерология для всех народов высший смысл несет, а для иудеев особенный, так как у нас буквы к тому же ещё и цифровое значение имеют. Ну, вы же и сами знаете…
– Знаю, Цейтлин, знаю! И, на мой взгляд, слишком уж у вас всё насыщено нумерологией этой! Не перебарщиваете ли? Иной раз прямо цифиризация текста какая-то. Ведь не для среднего ума всё это, согласись. Люди ведь просты большей частью, включая и твоих соплеменников. Им бы чего попроще, поощутимей. Бог всем нужен. Но такой, чтоб потрогать можно было. Живого Бога всем хочется! Вот что я тебе скажу! А не набор цифирей и функций…
– Но согласитесь, Светлейший, что ощутимый на ощупь Бог, как вы выразились, – это ведь очень напоминает… идола, не так ли? А ведь именно от этого и предостерегает Священное Писание. Ведь во второй заповеди сказано: «Не сотвори себе кумира и всякаго подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах под землею…»
Потёмкин резко остановился. И вместе с ним остановилась вся процессия. Сенька, ничего не видящий из-за нахлобученного по самые уши малахая и влекомый мощной рукой, держащей его за шкирку, ткнулся во внушительного объема Потёмкинское чрево. А Цейтлин, обнятый другой рукой Светлейшего за талию, внезапно развернулся градусов на сто двадцать, прямо как танцевальный партнер, оказавшись лицом к лицу с князем.
– Ну, ты даешь! – в восхищении произнес Григорий Александрович, – вот за это мы тебя и любим особо, Цейтлин… Однако хочу тебе возразить, что никак нельзя смешивать поклонение святым иконам с запрещением поклоняться идолам, кумирам и тельцам золотым. Ибо мы, православные, вовсе не считаем иконы идолами. Икона по-гречески означает «образ». И, молясь перед ними, мы молимся не раскрашенному куску дерева, а тому, кто на ней, на иконе, изображен. Обращаться к Спасителю несравненно легче, когда пречистый лик Его перед тобой! А не пустая стена… Если только это не стена Храма Ерусалимского, – вдруг поправил он сам себя.
И задумался… Помолчал с полминуты. А потом, вздохнув, признался:
– Как же ты иной раз можешь мысль взбудоражить, брат Цейтлин! Прямо дар у тебя к этому! – и, не удержавшись, ехидно добавил: – Пожалуй, даже больший, чем к финансам…
И вновь возобновляя поступательное движение в направлении дворца, а вместе с ним двинулась и вся процессия, Светлейший позволил себе пошутить ласково:
– Я, признаться, теперь даже про двадцать шесть хвостов собольих на шапках ваших и спросить боюсь! Не знаю, осилю ли такой объем цифровой информации.
– С этим проще, – двадцать шесть – есть сумма числовых значений входящих в него букв, дающая нам одно из имен Всевышнего, – начал было Цейтлин, но был прерван…
– Вот мы и пришли! Заходи, Симеон-отрок, гостем будешь, – радушно-помпезно провозгласил Потёмкин, подводя своих спутников к уже открытым в их ожидании дверям оранжереи и зимнего сада.
– А про идолов и язычников, им поклоняющихся, мы с тобой попозже ещё поговорим… У меня на этот счет есть особое мнение. Интересно мне, к примеру, что ты о моей нойде ижорской думаешь? Она-то ведь точно ведьма! Соснам своим священным молится…
При этих словах пригревшаяся под мышкой у гайдука Петра Ефимовича Изида зашебуршилась и, выпростав длинную мордочку, устремила умный и внимательный взгляд на Светлейшего…
О проекте
О подписке
Другие проекты
