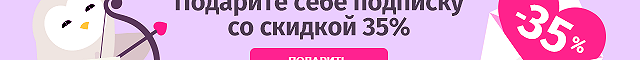
– Не часто случалось мне видеть столь много честолюбия в юной годами персоне. Любезный Фрол, считай своё желание исполненным. Кроме того, я хочу, чтобы ты всегда обедал и проходил латинский и немецкий урок вместе с Петром Артемьевичем, то полезно будет вам обоим. Так же, кроме обычного своего дела, тебе надлежит готовить себя к церемониалу, потому что со временем думаю сделать тебя адъютантом для парадных выездов. Но об этом после, а теперь, возьми в канцелярской столько денег, сколько ушло на дорогу и ступай за Петром Артемьевичем в баню. Словно к твоему возвращению истоплена.
– Не могу Артемий Петрович. Доктора приказали мне бани как огня остерегаться, потому как нашли во мне опухоль изрядную, для которой жар может служить пищею. Оттого никогда не парюсь в бане.
– Так вот отчего ты так слаб, бедный Фрол. Не печалься, наш вице-канцлер тою же болезнью отягощён, но, попомни слова мои, всех нас переживёт. А тебя осмотреть приглашу Лестока и Дитрихманна.
– Прошу вас, Артемий Петрович, – вскричала Налли с большою горячностью, – не давайте моей болезни никакого внимания, как я и сам поступаю, исключая воздержанности к жару. От докторов пользы никакой не увижу, только хлопоты да расходы.
– Что до хлопотав да расходов, то я не имею привычки бегать их, для тех кто того стоит. Но если ты презираешь тревогу и не мнителен в опасности до твоей жизни касательство имеющей, не стану отнимать у тебя сих достоинств. Изволь, коли ты так бодр в своей немощи, не стану тебе докторами докучать. Но ежели замечу…
– Ваше превосходительство, забудьте всё до моей болезни относящееся. Она мне вовсе не в тягость, – отвечала Налли, и тем разговор окончен был.
Волынской слов своих не забыл и вскоре приказал оседлать для сына и Фрола лошадей, которых сам для этой цели выбрал.
– Стыдно сыну обер-егермейстера и его секретарю не быть изрядными наездниками, – обратился он к ним со своего коня, будто к полку, ободряя перед баталией.
Он заставил проехать обоих всадников несколько времени вокруг, меняя аллюры, останавливаясь и снова трогаясь, наблюдая их и не делая покуда никаких замечаний. Затем приказал им остановиться и со вниманием отнестись ко всему, что они услышат.
– Ваши слабости, судари мои, таковы: для вас неизвестно подлинным образом к чему какой предмет служит, отчего вы и половины выгоды из них извлечь не можете.
– Про трензель много говорить нечего, а то как лошадь замундштучена не малое значение имеет. Не у всех лошадей чувствительность рта одинакова и тот кто всех на один манер мундштучит поступает неразумно. Положение сие я не признаю и покажу вам всю его несостоятельность. Теперь, судари мои, взгляните на маргиналь, который во многих случаях упрощает дело, если лошадь норовистая и любит закидывать голову, что замечу, должно означать что выезжалась она поспешно и плохим берейтором.
Маргиналь бывает трёх видов: охотничий, мертвый и шпрунт. У вас – шпрунт. Он хорош для вашей лошади. Охотничий и особенно мертвый маргиналь опасен, особенно в руках слишком строгого наездника, разумею – не вас, ибо связан с трензельными кольцами и рвет лошади рот.
Новичку я не предложил бы стремена, пока не уверился бы, что он умеет на всех аллюрах твердо сидеть. В старину все кавалеры держались этого французского правила и вам их пример фаворабелен. Не часто вставайте на стременах, и когда станете их употреблять, ибо очень многие убились насмерть, падая из этого положения, в то время как падение из седла и при весьма опасных экзерсициях не столь часто бывает причиной гибели.
Кроме того, тот кто не умеет правильно расположить ноги в стременах, будет иметь пришутовский вид, кривя спину и шею, и в самом лице не сможет подобающее расположение хранить. Хлыст служит только тому, чтоб приучить лошадь к терпению и о хлыстах долго распространяться резона нет, ибо хорошему наезднику – шенкель и повод, а плохому – хлыст.
Теперь ты, конечно, догадался Фрол, какого представлял из себя кавалера, когда я дал тебе не просто хлыст, но «кошку». Льщусь, однако, что сколько не бывает тяжек труд отстать от привычек, приставших от первого учителя, ты, с помощью моей, его одолеешь.
– Я забываю и презираю недостойные эти привычки! – пылко воскликнула Налли.
– Батюшка, а скоро мы станем изрядно ездить? – спросил Пётр.
– Смотря по тому, что ты зовёшь «изрядным». Всякий ли может твёрдо и хорошо сидеть в седле? Сие утвердительно. Но не всякий красивым наездником и Адонисом глядеться будет. Для того много месяцев должно трястись на рыси без стремян, на трудных лошадях сильных и капризных ездить, на всех аллюрах и прыжках держать голову прямо, но со свободой, не устремлять взгляд в одну точку, а видеть всё, что кругом делается, плечи и руки вниз спускать и на высоте кушака локтем корпуса касаться. Носок нужно не сильно ставить внутрь, то не только не придаёт никакой привлекательности ногам всадника, но и шенкелю помехой бывает, отчего шпорить приходится с удара. В то время как трогать лошадь должно таким способом.
Волынской лёгким движением каблуков позволил, давно нетерпеливо ожидавшей лошади рысью взять с места.
– И вы извольте тоже проделать, – сказал он оборотясь и встав шагах в тридцати от учеников своих.
Пётр тотчас исполнил что от него требовалось, но Налли сколько не понуждала лошадь двинуться с места ничуть в том не преуспела. Тогда, боясь вызвать смех со стороны зрителей, она оставила попытки произвести нужное движение ступнями ног и дала шпоры от всей души. Налли готовилась к тому, что лошадь под ней бросится вперёд, но она рванулась вверх, совершив прыжок с четырёх ног.
– Голову ей задери! – крикнул Волынской. Подскакав в тот момент, когда лошадь, сгорбив спину, пыталась сунуть голову между передних ног, он схватил Налли за ворот, чем избавил её от падения вперед через голову лошади.
– Трензель! Ещё трензель, сильнее! Подайся назад! – продолжал он кричать, желая, чтобы ученик его сам вышел из создавшегося положения и в то же время держась в такой позиции из которой снова мог достать до Налли. Но она столько была ошеломлена как норовистостью лошади, так и рывком, которым Волынской водрузил её в седло, что не могла продолжать урок свой. Перепутав поводья, она все усилия свела к тому только чтобы не быть сброшенною наземь.
– Так не годится! – воскликнул Артемий Петрович, хватая за повод Наллину лошадь и принуждая её прекратить свои чудачества, – под тобою кавалерийская лошадь, изрядной выездки, а ты сейчас привьёшь ей дурной нрав. Запомни, что, если ты сделал ошибку, за тобою всё равно непременно должен остаться спор с лошадью. Лошади очень хитры и всякий раз будут повторять баталию в которой одержали верх. Для первого разу довольно, – добавил он, взглянув ей в лицо, на котором слишком ясно написаны были усталость и сознание неудачи.
– В кавалерии тебе не служить, но pour etre et paraitre bien en selle[6], не превзойдён будешь. Приземистый толстяк смешон, а человек слишком высокого роста неустойчив в седле, и ему необходимо бывает согнуть ноги, чтобы дать шпоры, а то и некрасиво и расстраивает спину и всю посадку. Нет нужды повторять что не все драгунами родятся. Ещё менее находится таких, кто способен украсить церемониал, и ты – среди них. Разумеется, после того как овладеешь искусством правильно брать с места разным аллюром и останавливать.
– А смогу ли я быть драгуном, батюшка? – спросил Пётр.
– Тебя ждёт иная будущность, – отвечал ему Волынской, целуя его в лоб, – счастлив ты, сын.
* * *
«Здравствуйте государыня-матушка.
Вашими молитвами мы живы и благополучны. Фрол по-прежнему занят своею службою, я по-прежнему имею единственным и приятнейшим занятием составление вам реляций, которые брат не в состоянии найти время и сил изготовить.
Расскажу нашу новость. Господин Еропкин Пётр Михайлович, занят писанием гравюры, представляющей родословное древо дома Волынских. Он показывал мне (ибо Фрол привёл меня на ту пору в дом, где секретарь иностранной коллегии Иван де ля Суда был именинник) свою работу, ещё не оконченную. Внизу чертежа изображены имена и гербы князя Дмитрия Волынского и сестры Дмитрия Донского великой княжны Анны. Этот князь Волынской командовал засадным полком на поле Куликовом и ударом своим переломил ход битвы ко счастливому её завершению. Волынские княжили в Звенигороде, Дмитрове, Рузе, Калуге, Ржеве. Почти все были с стольниками при царях Московских. Михаил Волынской 1567 года стал думным боярином. В роду есть даже свой святой – игумен Троицкого Клопского монастыря под Новгородом, также Михаил, умерший в 1456 году и прославленный многими чудесами. Волынские сражались, командуя полками при князе Дмитрии Пожарском, приняли участие в Земском соборе, избравшем Михаила Романова на царство. Дед Артемия Петровича, также стольник, прославился в литовском походе, отец – с тем же чином состоял при молодых царях Петре и Иване. Теперешний глава рода, также и даже более предков своих выказал отваги и расчётливости, командуя полками в Северной войне с Карлом в самые юные свои годы. Картина, хотя, как я сказала ещё не совершенно окончена, очень удалась, и Пётр Михайлович подолгу любуется своей работою, позволяя разделить сию приятность всякому. Господин Волынской имеет желание чертёж его напечатать и разослать «по России и в другие государства». Сам он теперь не дома, но высочайшей волею послан вторым послом вместе с господином Шафировым в Немиров – город на Польской границе – для мирных переговоров с Турцией. После отъезда его прошло более месяца, когда вдруг Фрол был пожалован нежданною наградою и честью – письмом своего патрона. Я привожу его вам, любезная матушка, от слова до слова, чтобы вы могли порадоваться за сына вашего, как это делала я, плача от счастья и целуя строки письма. Вот они:
«Любезный Фрол.
Душа твоя создана для дружбы – в этом я убеждён теперь, когда так долго лишён её. Вероятно, и ты скучал, не получая от меня писем, но я избавил бы тебя от огорчения гораздо скорее, если б почта была исправна. Это письмо я отправляю с курьером министра иностранной коллегии. Ты конечно, хочешь от меня живописаний окружающих меня предметов. Вот они: предместья Немирова превосходны и украшены лесами. Я изредка допускаю себе удовольствие верховой прогулки, иногда в обществе Шафирова, иногда – Родионова, но всегда – с тобою. Мысль о детях, тем более теперь, когда Родионов, как и я, вдали от них, связана с твоей нелицемерной заботой. Не оставляй меня без уверенности в ней.
Что касается до моих занятий, то вот тебе рапорт самый новый.
Союзники – австрийцы вступили в войну на Балканах. Граф Миних 2 июля штурмом взял Очаков и разорил весь Крым, но скоро тон реляций его изменился.
«Армия не нуждается ни в чём, но климат убийственный помимо 2 тысяч раненых, больных 8 тысяч, они умирают как мухи, и всё от климата». А в другом письме сообщает «… войска тают без законной причины, однако все зажиточные турки в Константинополе уже отправляют лучшие вещи в Азию и считают гибель государства своего неминуемою». По признанию герцога Бирона, Крымская война идёт «не как должно» и он выказывает «склонность к примирению, лишь бы то не повлекло ничего, несовместимого с честью России». Потому мои сражения с австрийской коллегою графом Остейном, не будучи подкреплены русскими пушками, тоже идут не так, как можно было ждать при начале действий нашей армии. Всё же, ласкаюсь, граф Остейн, о ком имею большое попечение, не так мне пагубен встанет, как Миниху воздух Очакова. Австрийский посол очень любезен и приятен в обращении. Я не только говорю с ним о делах, сидя в палатке, но гуляю по берегу пруда. Он вполне разделяет моё убеждение, что турки всячески простираются положить между нами холодность, и в том весь их авантаж состоит. Уверившись, что слова сии не пустая любезность, я отвечал турецкой стороне на предложение оставить России один Азов, что «ежели турки недовольны нашими умеренными требованиями, то мы далее будем войну продолжать. Но ежели пламень расшириться, то уповаю на Бога, в будущую компанию турки и сверх Очакова потеряют и тогда труднее им договоры станут». Остерманн в столице, конечно, не может видеть всех предметов точно так, как я из своей палатки, и думает заключить мир на прежних кондициях. Он согласен со мною в уповании на несогласие в генералитете Порты, в котором тщусь укрепить и графа Остейна.
При таких конъюнктурах, Божьей милостью, нужно ожидать конца переговоров в два месяца или немногим более, а по реляциям от графа Миниха, кои мне много печали делают, чем скорее, тем для империи нашей фаворабельней.
Ты узнаешь, по сим словам, мою страсть, ибо чем бы я не начал, кончу делами, но конечно, не поскучаешь их описанием.
Мои заметки предназначены тебе одному и их никто не должен видеть, если тебе дорого, чтоб я оставался твоим
А.П.»
Видите, теперь, любезная матушка, как много чести и доверенности имеет Фрол. Он не может выразить сколько заключает в душе своей счастья, и обеспокоен только одним – нарушением последнего указания, полученного от своего патрона, ибо он не удержался показать вам письма. Потому умоляю вас сжечь его сею же минутою, а за остальное он вполне спокоен, так как убеждён что вы не вспомните ни строчки о переговорах, как скоро отложите бумагу в сторону. В чём вполне обнадёжена остаюсь дочь ваша, покорная Налли».
Благодаря усилиям Шафирова и Волынского переговоры окончились в октябре, и до этого срока Налли успела обменяться с патроном ещё несколькими письмами, в последнем из которых писала:
«Сиятельный патрон, государь мой Артемий Петрович,
Великодушной заботливости, с которой вы снова обращаетесь ко мне, отвечаю – я гораздо здоровее, чем вы предполагаете, что неудивительно, помня о целительном нектаре, который нахожу в ваших письмах и который пью, разделяя жребий и приятность жителей Олимпа.
Не могу расстаться с величественным зрелищем, картина которого начертана в уме моём известиями из Немирова. Провидение явило России особенную благость, вручив власть отстоять честь её в ваши руки. Теперь вы ниспосланы им для славы русских в Немиров, как прежде – на кровавые поля впереди легионов. Отчего не быть рядом с вами тогда, теперь, вечно? Увы, зачем не обрести мне счастья уберечь вас от пули и шпаги, предательства и обмана, болезни и огорчения. Каких подвигов не совершил бы я?!
Но спешу оторвать свой взор от Немирова, а речь – от сетований, ибо если не найду в себе сил сделать это теперь же, они заполнят не только мне душу, но и бумагу, на которой пишу, и она брошена будет вами в печку с прочими никчёмными реляциями.
Вы говорите, что не имеете доверия письмам сына, страшась что в любви к вам и к вашему спокойствию, они наполнены более вестями радостными, чем правдивыми. Mon General, заверяю вас, они – наши новости – действительно могут именоваться теми и другими одновременно. Пётр Артемьевич под великою тайно разучивает речь на латинском языке, с тем чтоб сделать вам сюрпризу. Для этой же цели я не стану говорить кто составитель её и до чего она касается. Льщусь надеждою в день памяти небесного патрона вашего мученика Артемия Антиохийского и вашего рождения, выслушать её, радуясь вместе с вами и вашими верными клиентами и домочадцами. Анна Артемьевна так мало подвержена слабостям своего возраста и пола, что я удивляюсь вместе с прочими её способности управляться с домом. Здравый рассудок и решимость докончить начатое – добродетели более всего свойственные её натуре, твёрдой и прекрасной, которой подражать тщился бы, если б мог.
Управляющий Московской вашей усадьбы Филипп Боргий, и приказчик Афанасий Глинский прибыли в дом благополучно, и предоставили в канцелярскую новые реляции из которых сделал относящиеся до положения усадьбы экстракты. Прилагаю их к письму.
Вы хотите слышать от меня новости вашего ведомства, но требованием своим наводите на меня страх. Это всё равно, что требовать от кружевницы уметь стрелять из ружья. Впрочем, в предыдущем письме я пытался описать интересующие вас предметы, так как они представляются моему рассудку. Если вы в своей снисходительности найдёте себе что-нибудь полезное посреди моих реляций, то это будет предел моих желаний. Итак, имею сообщить, что введённая вами новая должность штал-директора утверждена. Служащие в гвардии конной унтер-офицеры и придворные берейторы, имена которых были указаны в вашем запросе в сенат, причислены к возглавляемому вами ведомству. Иоганн Кишкель и Адам Людвиг стали вашими клиентами в чине шталмейстеров. Прошение о не взимании недоимок с крестьян, отписанных к ведомству, утверждено, но встало дорого. Доклад об ущербе от московского пожара не зачитывался. Об мундирах для конюшенных служителей не имею ничего доложить, кроме того, что Пётр Михайлович Еропкин их рисует, и надеется вам угодить ими. Что касается до моего взгляда, они как нельзя хороши, но только цвет – голубой – непривычен в конюшне. Пётр Михайлович ждет вас и готовит триумф и лавры. Вообще весь дом, и как мне представляется, вся столица грустят о вашем долгом отсутствии. Льщу себя счастием, что вы скоро в неё возвратитесь и здесь беседы с вами излечат меня от печали и научат как себя должно держать, чтобы сохранить имя не совершенно ненужного вам
Фрола Кущина».
* * *
«Здравствуйте, государыня матушка.
Вашими молитвами Фрол в дому генерал-аншефа хорошо прижился и даже смог исхлопотать для де Форса место учителя при латинской школе, устроенной для домашних Волынского. Потому мы стали несколько богаче, и Фрол шлёт вам десять рублей, которые покорнейше принять просит, а сам не имеет никакой нужды.
У нас совсем настала зима. С крыши конюшни устроен деревянный спуск – жёлоб, залитый водою. Дети Волынского в ясную погоду любят забавляться катанием с этой горы, которая благодаря высоким с обеих сторон бортам вполне безопасна, или на коньках по льду реки. Фрол часто разделяет это веселье, ибо Пётр Артемьевич так полюбил чтение его, что по долгу от себя не отпускает и привык к его обществу. Старшие девицы бывают большими насмешницами и называют Фрола «братец-писарь», но тоже расположены к нему и угощают апельсинами, до которых он оказался великий охотник. Анна Артемьевна несмотря на свои не полные пятнадцать лет заменяет в доме хозяйку, умна не по годам и отец часто доверяет ей в вопросах до нужд имения относящихся. Она платит ему преданностью, какую можно найти в сердце война.
Мария Артемьевна гораздо менее сестры напоминает дочь Марса. Расскажу один случай, который даст вам верное представление о её сердце. Пётр Артемьевич весьма часто бывает не здоров и генерал, всегда обеспокоенный этим обстоятельством, постоянно ищет способа порадовать чем-либо сына. Однажды, в то время, как Пётр Артемьевич болел горлом, отец его купил у какого-то немца ручного сурка и принёс его в дом. Подарок произвёл ожидаемое действие и очень развеселил больного.
О проекте
О подписке

