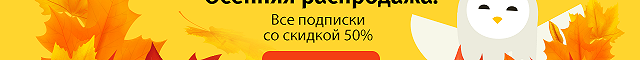
Глава 6
Перед концертом она не заходила к Мите никогда, и в этот вечер тоже – это было не нужно. Не нужны были и какие-либо ее сопутствующие усилия: агент, с которым Митя работал много лет, поставил дело так, что любое постороннее вмешательство только внесло бы суету и помехи.
Когда в первый год своей с Митей жизни Лера спросила, не нужно ли ей поехать в Базель, где у него назначено сольное выступление, на день-два раньше, посмотреть, хорош ли отель, вообще, подготовить что-то необходимое, Митя удивился, а потом сказал, что, конечно, не нужно.
– Не обижайся, Лер, – объяснил он. – Я же с каких лет езжу, все давным-давно налажено. Контролировать не надо, помогать тоже.
В общем-то она и сама это понимала – особые обстоятельства Митиной жизни были ей известны лучше, чем кому-либо другому.
Лера училась во втором классе, когда ей почему-то вздумалось заняться музыкой. В музыкальную школу ее не приняли за полным отсутствием слуха, но мама решила, что Лерочкино стремление к прекрасному надо поощрять, тем более что оно разительно отличается от ее обычных интересов – лазить по чердакам и делать взрывпакеты вместе с соседским Витькой. Через несколько дней после музыкального экзамена мама сообщила, что Елена Васильевна Гладышева из седьмой квартиры согласилась с Лерой заниматься, и это, конечно, большое счастье, потому что Елена Васильевна педагог настоящий, и если бы не ее болезнь – после родов парализованы ноги, – то она не на дому, а в консерватории преподавала бы.
Так Лера стала приходить в гладышевскую квартиру, и жизнь ее переменилась совершенно, потому что переменилась она сама. Правда, музыкальные уроки длились не больше года – слушая Митину скрипку, странно было бы не понять вздорность собственных попыток бренчать на пианино. Да и с самого начала это Лерино желание ничем не отличалось от множества других ее детских фантазий вроде занятий в химическом кружке или выращивания птиц на станции юннатов. Все желания такого рода мгновенно вспыхивали в ней и мгновенно же гасли, и нынешнее не стало исключением.
Но с Митиым домом оказалось связано другое, и это другое не прошло ни через год, ни через десять лет. Разговаривая с Еленой Васильевной, читая книги из огромной, собранной тремя поколениями Гладышевых библиотеки, Лера прикоснулась к жизни, о которой даже не подозревала. Эта была особенная жизнь человеческого духа, и трагичность существования была такой же ее составляющей, как радость. Радость происходила от голоса Митиной скрипки, от картин, висящих на стенах или скрытых обложками альбомов – в одном таком альбоме Лера впервые увидела «Рай» Тинторетто, и если бы не это, вряд ли она решила бы поступать на историю искусств в МГУ. А трагичность не бросалась в глаза, но все равно существовала – и от того, что Елена Васильевна проводила свою жизнь в инвалидном кресле, и еще больше от того, что ее муж, Митин отец, ушел, полюбив другую, и хотя все в жизни этого дома поддерживалось, да и просто оплачивалось им, понятно было, как тяжело это для Елены Васильевны.
Более тяжело было для нее, пожалуй, лишь то, что она не могла принимать в Митиной жизни такого участия, которое считала само собой разумеющимся – соповождать его в поездках, занимаясь всем, чем с волнением и восторгом занимались другие мамы и бабушки талантливых детей: наглаживать рубашки и брюки, следить, не дует ли из окна в гостинице и есть ли суп к обеду… Но Лера своими ушами слышала, как Митя сказал однажды:
– Мама, это может делать любой. А то, что можешь ты, не сделает для меня никто, и только это мне нужно.
Лере было тогда девять лет, Мите, значит, четырнадцать, но она поняла, о чем он говорит, и ни на мгновенье не усомнилась в том, что все именно так и есть, как он говорит: Елена Васильевна знает, что ему нужно, и делает это для него.
Елена Васильевна умерла тридцать лет назад, а то ли, что нужно, делает для Мити она сама, было для Леры сложным вопросом. Иногда ей казалось, что и через двадцать лет жизни с ним она не знает этого полностью и даже, может быть, теперь знает гораздо меньше, чем двадцать лет назад.
Но как бы там ни было, в его музыкальную жизнь она не вмешивалась и занималась только жизнью Ливневского театра. Это требовало всего ее времени и всех сил, поэтому профессионализм агента, освободившего ее от забот о Митином концертном быте, оказался удобен так же, как и Митин минимализм во всем, что считается необходимым для жизни.
Фестшпильхаус был перестроен из здания баденского железнодорожного вокзала. Собственно, старинный вокзал остался, но там, где когда-то начинались железнодорожные пути, к нему был пристроен куб из мрамора и стекла, не сразу заметный за неоклассическим фасадом. В нем-то и находился концертный зал, огромный, на две с половиной тысячи мест, и все это было выразительным объяснением того, что такое европейская многослойность.
Проводив Митю до артистической, Лера вышла в вестибюль. Он был украшен рождественскими гирляндами, но и собственная его красота – лепнина, фрески, расписной потолок – создавала ощущение праздника и чего-то еще, тонкого, трепетного, но несокрушимого. Лера знала это ощущение по множеству театров и залов, где играл Митя. Ей казалось, что оно возникает и в Ливневском театре, и она гордилась этим.
Она погуляла по нижнему и верхнему фойе, полюбовалась людьми – все вместе они выглядели как импрессионистская картина, – выпила шампанского, подумала, что хочет уже и есть, потому что, как и Митя, не стала обедать, но решила, что потерпит до ужина, который будет после концерта; на ужин их пригласил директор, встречавший у служебного входа.
Вообще-то Лера не очень любила огромные концертные залы – камерность Ливневского театра казалась ей привлекательнее. Но Фестшпильхаус был построен так продуманно, что его пространство не выглядело чрезмерным.
Зал был заполнен весь, до верхних ярусов, и насыщен ожиданием музыки, как воздух бывает насыщен предгрозовым электричеством. Это чувствовалось даже физически – Лере казалось, ее открытые вечерним платьем плечи покалывает морозными искрами.
Перед тем как пройти на свое место, она подошла к сцене, чтобы разглядеть, как выглядит механизм, с помощью которого первые ряды партера можно превращать в оркестровую яму во время оперных спектаклей. Хоть и понятно, что стоит такое устройство слишком дорого для Ливневского театра, но реалисты, как известно, требуют от жизни невозможного, а себя Лера считала безусловной реалисткой. Разглядеть механизм ей, правда, не удалось, но можно было не сомневаться, что он действует без сбоев.
Она вдруг поняла, что ищет повод для того, чтобы вызвать в себе взволнованность. Эта догадка показалась такой странной, что ускользнула, не успев сложиться в мысль. Да и свет в зале погас, и начали выходить на сцену музыканты.
Лера не чувствовала Митиной отдаленности от нее, когда он был на сцене. Вряд ли это было связано с тем, что она бывала на множестве его концертов. Точно так же она не почувствовала его отдаленности, отдельности и когда Елена Васильевна первый раз пригласила ее в консерваторию, где он дирижировал симфонию «Прощальная» Гайдна.
Лере было тогда десять лет, и ей больше всего понравилось, что каждый музыкант, закончив свою партию, гасит свечу, горящую на его пюпитре. Последнюю свечу погасил Митя, когда симфония закончилась. То есть не одни лишь свечи – Митино дирижирование, конечно, понравилось тоже. Но Лере ведь нравилось все, что он делал, вообще все – и когда звуки его скрипки доносились из кабинета в гостиную, где Елена Васильевна рассказывала ей про Венецию, и когда однажды он в две секунды показал ей, как надо играть «К Элизе» Бетховена, просто проиграл одной рукой на пианино, и все стало понятно. Ну и дирижирование должно было ей понравиться обязательно, так и вышло. Он был такой свой в необыкновенности каждого его действия, что Лера не могла отделить его от себя ни в чем.
Как он мог ее полюбить при такой обыденности ее присутствия, при такой многолетней повседневности ее скольжения по краю его жизни? Она долго не могла к этому привыкнуть.
С тех пор как Лера стала директором Ливневского театра, отсутствие слуха угнетало ее. То есть для работы это не было помехой – вокруг музыки требовалось делать очень много всего такого, для чего музыкальность была вообще не нужна. Но ядрышко музыки в скорлупе обыденности – этот вкус ей всегда хотелось почувствовать. И сейчас тоже хотелось бы именно чувствовать, что оркестр играет прекрасно, а не просто знать, что Берлинский филармонический не может играть иначе. Но уж как есть, так и останется – на шестом десятке никто не одарит музыкальностью.
Митино лицо было близко, и как раз сейчас оно было именно такое, как на «Портрете музыканта» да Винчи: не понять, что он думает и чувствует, куда всматривается, что тонет в углах его глаз, в темной тени прямых ресниц. А значит, и тот единственный способ, которым Лера могла чувствовать музыку – через Митю – был для нее в эти минуты недоступен.
Она вдруг поняла, что думает об этом спокойно, как о непреложном факте. Когда она стала думать так, и неужели это в самом деле непреложно?.. Лера не знала.
Она ждала, когда вступит его скрипка. Ей необходимо было волнение, вызываемое этими звуками, и трепет, создаваемый из воздуха прикосновениями Митиного смычка, нужен был ей как вдох.
В полной, абсолютной тишине огромного зала прозвучали первые звуки скрипичного соло.
Она слушала их и даже что-то в них понимала, потому что, бывало, расспрашивала Митю о том, что он играет, и он никогда не отвечал ей пошлостями вроде «этого не объяснить словами», хотя музыку ведь в самом деле словами не объяснить… В общем, смысл его игры был Лере понятен. Но чувства ее будто пленкой затянуло, и ни трепет по ним не пробегал, ни протуберанец из них не вырывался.
Это казалось ей не странным, а таким каким-то страшным, что она боялась смотреть на сцену. Вряд ли Митя поймал бы ее взгляд, играя, но она все равно смотрела вниз, на собственные пальцы, сжатые на барьере ложи, и на кольцо с изумрудом, боковым зрением видела приколотую к платью брошь с изумрудными же горошинами, что-то еще неважное…
Конец ознакомительного фрагмента.
О проекте
О подписке