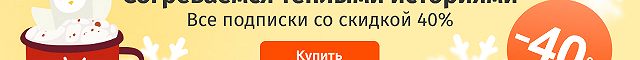
– Девушка, вы собираетесь выйти за доблестного полицейского? – рассмеялся я, изображая голос блюстителя порядка.
– Что за глупости! – лениво перевела она на меня взгляд.
– Значит, за отважного пожарного? – не унимался я, отвратительно изображая Ромео. – Детка, я потушу этот пожар… чувствуешь, как он неумолимо снедает тебя изнутри?
– Прекрати балаган! – воскликнула Ева, вырываясь из объятий обожателя Джульетты. – Ни черта ты не понимаешь!
Когда я наконец успокоился, она задушевно промолвила:
– Нет на свете ничего лучше, чем ездить с мигалками! Чувствовать своё превосходство над окружающими… быть самым, самым.
Последние слова задели меня: те ощущения, которые когда-то дарил пьедестал, упорно не поддавались забвению.
– Не кажется ли тебе порой, что ты попросту прожигаешь свою жизнь? – спросила Ева, взяв меня за руку.
«Не кажется?» – ухмыльнулся я про себя и язвительно заметил ей: «Проводя время с тобой здесь, на крыше?»
Она собиралась было сказать что-то ещё, но я, не желая портить вечер, подлил своей подруге вина, пытаясь утопить в нём все-все слова.
III
Колесо моей жизни продолжало неторопливо катиться по дороге времени. Я вернулся в Париж и открыл новую школу танцев, которая располагалась буквально в паре кварталов от прежней, хотя на деле, как подметила Ева, эти две школы разделяли целых четыре года. Я решил остепениться и впредь использовать школу только по назначению. Участвовать со своими ученицами в сражениях под знамёнами Венеры – в тех самых, что так забавно описал Апулей в начале новой эры, – мне больше не хотелось.
Годы странствий научили меня тому, что танцы – не лучший и далеко не единственный повод для начала отношений с противоположным полом. Кроме того, следовало уделять больше времени развитию профессиональных спортсменов: «Именно они – ключ к успеху, краеугольный камень здания моей известности и доброй репутации», – крутилось в голове. Таким образом я и вправду остепенился, снова оказавшись на верном пути.
Вскоре, освоившись в новой студии, спустя месяц-другой я решил повидаться со старыми знакомыми. Милана, недавно делившаяся со мной своими планами, вновь отправилась в турне. Анджела была безумно занята организацией третьей выставки: несмотря на то что показ готовили больше года, она страшно волновалась и всё время вносила «последние» правки в свои картины. Наблюдателю со стороны могло показаться, будто юная художница старается не то оживить, не то заколдовать свои полотна. Кусок дерева с насаженной на него щетиной какого-нибудь зверя в её руках превращался в волшебную палочку – омелу друида. Кистью она пыталась вдохнуть жизнь в краски, ею же искала Грааль – невидимую границу заветной страны под названием Шедевр.
Обычно за несколько месяцев до выставки Анджела словно косатка надолго заныривала в глубины студии и почти не покидала её. Я решил не тревожить её своим возвращением и дождаться разговора после вернисажа. Так мой круг общения на время сузился до немногих друзей и Евы. Последняя была искренне рада моему приезду, а мои планы относительно школы привели её в настоящий восторг:
– Наконец-то ты понял, что реноме – это твоё всё! – улыбалась она с довольным видом. – Ведь, в сущности, неважно, чем занимается человек: забивает ли гвозди, правит ли страной или, как ты, учит других танцевать – он должен развивать свой талант. Стремление быть лучше делает жизнь жизнью, а не простым прозябанием.
– Ага, – вставил я, – слава самурая бежит впереди него.
Кто бы мог подумать, что четыре года работы, направленной не в то русло, так подорвут мою известность! Парижские газеты едва упомянули об открытии школы – и даже те строки были написаны скорее ради злословия. Моё имя напоминало забытое на чердаке зеркало: оно утратило былой блеск и покрылось пятнами забвения. Но такие затруднения не пугали – они напоминали очередной сезон состязаний, где каждая новая гонка обнуляет счёт, отдаляя от победы.
Тем временем в школе появлялись новые ученики, и вскоре среди них выделились пятеро наиболее перспективных спортсменов. Больше всего времени я посвящал именно им: «Частые газетные заметки об их победах станут золотыми кирпичиками к изумрудной стране известности», – витало в голове.
Так прошло полгода. Школа всё реже принимала простых любителей, хотя теперь они, вопреки прежнему, были уже не капризом, а необходимостью, приносящей ощутимую часть дохода.
– Ты становишься альфонсом! – подтрунивала надо мной Анджела после выставки. – Тебя больше не интересует привлекательность учениц! И с каких это пор кошелёк стал лучшей рекомендацией для девушки?
Однако милая художница ошибалась. Я не утратил интереса к красоте, да и до сих пор не мог отказать талантливым, пусть и небогатым ученикам. В тот период школа во многом держалась именно на любителях. А равнодушным к очарованию женщин я так и не научился быть.
Однажды, во время урока, я заметил на пороге что-то удивительное (из-за громкой музыки мы не услышали, как вошла посетительница). Хотя лето – раннее, парижское – было в разгаре, уже три дня подряд лил проливной дождь. Серые стены домов почти почернели от воды, белые фасады посерели, а грустные кариатиды прятались под крышами. Казалось, город свернул бутон своих красок и погрустнел.
Мне была чужда меланхолия – в такие дни я, освободившись, обычно ловил такси и мчался на вечеринку к друзьям, смеясь по дороге над забавными мордочками собак, строящих гримасы своим безжалостным хозяйкам, – но даже для меня тогда не нашлось бы весёлости бегать по лужам.
Незнакомка на пороге была забавно одета. То ли по призванию, то ли случайно, но первым, что бросилось в глаза, стали её ноги, обутые в жёлтые резиновые сапожки. «До чего же они смешные!» – восхитился я про себя и поймал себя на мысли, как должно быть прекрасно гулять в таких сапожках по лужам, измерять глубину и ощущать на голени лёгкое давление миниатюрного моря.
Рядом с аккуратно стоящими сапожками я заметил такого же цвета зонт-трость, воткнутый остриём в паркет. Крупные капли на складках зонта медленно падали на пол, словно созревшие лимоны.
Вскоре розовый плащ отвлёк меня от этого созерцания: сквозь него выглядывали тёмно-зелёные брюки, заправленные в сапожки, и нежно-голубая блузка.
Я взглянул на лицо посетительницы: мягкие, выразительные черты, нежные линии, густые, слегка волнистые тёмные волосы каре – всё в ней складывалось в совершенную гармонию. Её каштановые глаза были огромными, губы – пышными, лицо разрумянившимся от ходьбы. Передо мной стояло само очарование, сошедшее с полотен Бугро – разве что облачённое по-современному.
Не слыша её голоса и не зная имени, я уже чувствовал: передо мной бесподобное создание. Её улыбка делала её обворожительной, а наряд говорил не только о смелости, но и о внутреннем свете. Пёстрое обличье этой девушки могло обезоружить дождь, превратив его в праздник жизни, ослепить молнию своими цветами, перекричать гром гимном юности и веселья.
Незнакомка казалась мне неведомым, почти неземным существом, которое, если и обрадовало мою студию своим присутствием, то лишь по невыносимо глупой случайности. Мне не хотелось успеть сравнить её с другими, пытаться запечатлеть этот волшебный образ в анналах памяти, задаваться вопросами «отчего» и «зачем», – я решил, что будет лучше поскорее выпроводить её, как бы грубо это ни выглядело.
– Что вам угодно? – довольно сухо спросил я.
– Я случайно наткнулась на вашу вывеску, – радостно начала посетительница приятным, словно музыка, голосом, – и подумала, что мне, пожалуй, не помешает взять несколько уроков танцев!
Слегка смягчившись, я предложил ей прийти завтра в то же время. Она как-то по-особенному светло улыбнулась и выпорхнула за дверь. Остаток урока, да и всего дня мои мысли возвращались к видению, имя которого я всё ещё не знал.
На следующий день Париж благоденствовал под лучами вновь вспыхнувшего солнца: дождь прекратился ещё накануне. Птицы то и дело шуршали крыльями, купаясь в лужах, пока те не исчезли под жаром. Разноцветные зонтики цветов распустились на газонах и кустах; редкие облака лениво плыли на юго-запад. Блестящие глаза моей студии – окна – томно раскрыли веки, впуская аромат лета.
В назначенный час на пороге школы снова появилась незнакомка. Хотя одета она была довольно просто, в тканях её наряда пробегали нити женственности и гармонии. Я уже собрался указать ей на ширму, за которой можно было переодеться, когда гостья, чуть пожав плечами, заметила:
– Меня зовут Эмма. Вчера я забыла рассказать вам кое-что важное о своём танцевальном опыте.
– Хорошо, расскажите сегодня, – улыбнулся я, – но давайте не будем стоять у двери: вот за этой ширмой вы можете приготовиться к занятию.
– Нет, послушайте, – покачала головой Эмма, чуть зардевшись, – это важно. Мне уже доводилось брать несколько уроков, но я, как правило, не проходила дальше одного-двух занятий, – вздохнула она. – Как только мой учитель или учительница позволяли себе хоть немного грубые замечания о моих шагах или движениях, я тут же собиралась и уходила, навсегда забывая дорогу к ним.
Решительность революционерки звучала в её голосе, внимательность разведчицы – в глазах. Моё спокойствие и отсутствие неуместной улыбки, видимо, были признаны удовлетворительными. Эмма продолжила:
– У меня никогда не было цели стать великой танцовщицей или балериной, – сказала она с лёгкой грустью. – Лишь скромное желание научиться сносно танцевать известные танцы. К тому же мне кажется, что я довольно танцевальна и хорошо слышу музыку.
– Я в этом не сомневаюсь, – ответил я.
Эмма улыбнулась.
– Однако я не намерена терпеть колкие замечания в свой адрес. Не могли бы вы…
– О, без проблем! – перебил я с улыбкой.
«Правда?» – весело спросил её взгляд.
– Да. Могу вас научить танцевать даже без слов! – приободрился я, поддавшись магии её глаз. – Вы не читали Луи Авегля? Он пишет, что немые – самые завидные учителя. [aveugle (фр.) – слепой]
– Нет, без слов не нужно, – рассмеялась Эмма, направляясь к ширме.
«Что за девушка!» – мелькнула мысль, затмив всё остальное.
Бесплатно
Читать книгу: «Поэма»
Установите приложение, чтобы читать эту книгу бесплатно
О проекте
О подписке
Другие проекты
