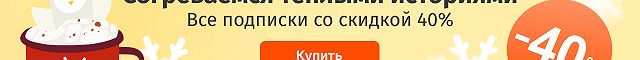
11. У Морского собора
Когда я вошел в сад, часы на колокольне пробили один раз. Было около шести часов утра. Потом, за долгое время сидения на скамье, я установил, что бой часов не соответствует показанию стрелок на циферблате. Стрелки показывали правильное время, а колокола отбивали, как им заблагорассудится.
Было темно и безлюдно. Все вокруг оледенело. Расплывчато сияли фонари.
Мои расчеты, конечно же, были абсурдны – я не знал, появится ли Ирина на набережной канала. Но я предполагал, что она может пойти по ней на работу к восьми или девяти часам утра, а если она не работает, а учится, то поспешит к этому же времени на учебу.
Чтобы сесть на заледенелую скамью, надо превозмочь в себе брезгливость к холоду и замерзшей влаге.
Вдруг я увидел… Полная силы жизни и горячего дыхания, она крепко спит в сотне метрах от меня, под теплым мягким одеялом, и в глубине ее глаз текут, одна за другой, объемные картины сна.
Мне захотелось войти в ее сон.
Чтобы она увидела меня в своем сне.
Из расплывчатых мечтаний я был вырван звонким скрежетом железа. С двух сторон сад и собор огибали трамвайные пути. Первый трамвай гремел колесами о рельсы, поворачивая сначала на одном повороте, а затем на другом.
И с этого трамвая началось утро.
Медленно оно рождалось из замкнутой тишины ночи. Стволы деревьев начали терять черноту, блеск льда потускнел, то тут то там стали появляться прохожие, замелькали за пределами сада легковые автомашины, дохнуло автобусной гарью, владельцы собак вывели на прогулку своих догов, пуделей, овчарок, алая струя света потекла в высоте… И вдруг шпиль колокольни и кресты на куполах собора ярко зажглись с восточной стороны.
«Солнце взошло над городом!» – подумал я и, как всякий житель Земли, испытал от этого радость и тут же понял, что это значит для меня, что уже около десяти часов утра и что Ирина уже прошла за моей спиною.
Я сидел лицом к собору и спиной к набережной канала. Я специально так сел, чтобы у меня не было возможности высматривать ее, и лишь она обладала возможностью увидеть меня.
Теперь, если мои предположения могли хоть как-то осуществиться, она должна была пройти по набережной, возвращаясь с работы или учебы, не раньше трех часов дня.
Я промерз до костей и хотел есть. Глупо я поступил, что не взял с собой термос с горячим чаем и бутерброды. Но тут же я понял, что лукавлю: такая мысль у меня возникала, но я нарочно не взял ни термос, ни бутерброды; мне казалось, что чем труднее будет мне выполнить мое обещание, тем вернее сбудется то, чего я хотел.
Я почувствовал на себе взгляд.
Крупный пожилой мужчина, одетый в зимнее пальто и папаху, стоял ко мне боком, делая вид, что смотрит прямо перед собой, но прищуренные глаза на его рыхлом лице, разделенные непропорционально маленьким по отношению к величине щек носиком, были скошены в мою сторону. Белая болонка семенила подле него. Я вспомнил, что недавно видел ее рядом с собой. Она подбегала к моим ногам и обнюхала мои сапоги.
Узрев, что я обнаружил его наблюдение за мной, мужчина отвернулся и, пройдя по аллее метров тридцать, подозвал к себе собачку, которую незачем было подзывать, потому что она не отставала от него, и опять искоса кинул взгляд в мою сторону.
Не знаю, какие подозрения успели родиться в его голове, но я испугался, что попадаю в пошлейшую ситуацию. Никому не запрещено сидеть на замерзшей скамье хоть неделю, но все это может иметь для меня самые неожиданные последствия, если он вызовет милицию. Что я скажу в свое оправдание? И кому? У меня даже документов, удостоверяющих мою личность, нет с собой. А главное, для разбирательства мне придется уйти отсюда.
Я встал, хотя мне не хотелось ни на минуту покидать скамью, подошел к нему и спросил закурить. Он ответил, что бросил курить. Я похвалил его за столь волевой поступок и проследовал по аллее дальше. Спиной я видел, как он смотрит мне вслед.
Двери в собор были приоткрыты.
Я вошел в благовонную тьму.
Плоские своды прочно лежали на низких столбах. Нижний этаж собора напоминал замкнутое, словно бы ограниченное снизу и сверху палубами нутро военного корабля. Нечто корабельное ощущалось и в латунных перилах, ограждавших иконостас, и в приставных металлических лестницах перед высоко повешенными иконами.
В соборе было пусто. Закутанная в толстые шерстяные кофты служительница продавала за прилавком свечи, и три человека стояли молча, держа снятые шапки в руках и склонив головы, в самом конце анфилады сумрачных залов перед гробом, возвышенным на деревянной скамье.
В переливчатом блеске стекол, которыми были закрыты иконы, в точечном сверкании лампад я ходил меж низких вертикальных столбов, одурманенный человеческим голосом, отпевавшим кого-то, кто уже не мог слышать ни этого голоса, ни шуршащего потрескивания свечей.
«Это не я там лежу в шестигранном деревянном ящике, – ответил я звучащему под сводами голосу. – У меня другая судьба. Ты сам знаешь об этом. Я только изучаю смерть».
И не оглядываясь, я вышел из собора.
Теперь я стал терять тепло быстрее. Я чувствовал, как с каждой минутой оно невозвратно уходит из меня.
Конечно, проще было написать Ирине письмо. Но я знал: письмо ничего не изменит. Она сказала: «Этот человек скоро станет моим мужем». Нужен поступок. Чтобы она увидела меня. А она видит его.
Однако странно… И вот чего я не предполагал: любовь, которая представлялась мне высшим благом, сверкающим светом, начиналась с борьбы.
Вокруг меня жизнь текла своим чередом – молодые мамаши катали младенцев в разноцветных колясках, в соборе шли службы, за пределами сада двигались автобусы и трамваи, горожане куда-то спешили, перемещались из одной улицы в другую, из района в район, а я среди всей этой живой, вращающейся вокруг меня жизни один сидел на скамье и сидением на скамье совершал какое-то странное и, возможно, противозаконное действо. Усилием воли я хотел воздействовать на свою судьбу. Но если я противоборствовал, то не себе же самому, но кому-то, кто был властен над моей судьбой. Он начертал ее по своему замыслу, я хотел начертать ее заново. По-своему. Да, сидением на скамье я пытался связать в том не зримом глазами, сокрытом от людей узоре судеб человеческих две нити – ее и себя!
Сила желания! Наверняка за каждым из нас стоит так много не видимого ни другими людьми, ни нами самими. И оно, это невидимое, и решает нашу судьбу.
Стемнело вдруг, без того недолгого промежуточного состояния полумрака-полусвета, когда крыши домов уже слиты в единый черный силуэт, но небо еще светло над ними.
Опять зажглись уличные фонари.
И мне показалось, что, как и утром, трамваи стали звенеть громче.
Я сидел без движений, стараясь дышать медленно и мускулы держать расслабленными. Короткий вдох и долгий длинный выдох, очень долгий и очень длинный, потому что во время выдоха тело изнутри как бы омывается теплом.
Еще раз сад наполнился человеческими окриками и лаем собак. С белой болонкой гулял школьник, и ему не было до меня никакого дела.
Остановившись под прямым углом друг к другу, стрелки на часах показали девять часов. Потом бо́льшая из них сорвалась со своей высоты, и сразу стало половина десятого.
И вдруг я понял, что не существую для Ирины. Что она даже не думала обо мне во все эти часы, которые я провел на скамье!
И еще – и это было мучительнее всего – что я уже с этого места не сойду.
Меня валило в сон.
«Интересно, пальцы можно будет отогреть? Я еще шевелю ими, – спрашивал я себя. – Что здесь было раньше, на этом месте? На каком месте? На том, на котором я сижу и жду ее. Болото было. Зимой – замерзшее, летом – гнилое, комариное. Волки здесь выли, и чухонцы занимались рыбной ловлей. Вот все, что было здесь триста лет назад. А сто тысяч лет назад здесь возвышался ледник высотой в несколько километров. А до ледника были тропики. Пышные тропические растения, гигантские змеи, разноцветные птицы. И было жарко, душно, очень жарко и очень душно, влажно и жарко. А теперь стоит огромный город с железными мостами через реки, с прорытыми под землей туннелями метро, с заводами, магазинами, вокзалами, больницами, тюрьмами, ресторанами, с утренними и вечерними газетами, телевизионной и радиостудиями, с могущественной противоракетной защитой и с этой самой оледенелой скамейкой, на которой я сижу. А что, собственно, важно для меня во всем этом? А важно для меня то, что я ужасно замерз и хочу открыть тайну тайн – для чего все это на этом самом месте, где я сижу, было до меня, есть со мной и будет после меня. Совсем немного времени пройдет – я уверен, его судьба не будет долгой, – и этого города опять не станет, не станет так, словно его не было никогда, и не будет ни этих улиц, ни этих вокзалов, ни этих газет… Где же буду я тогда, когда вся эта декорация, в которой протекала моя жизнь, исчезнет и тело мое, которому сейчас так холодно, станет прахом? И зачем я все это сделал, и делаю, и не могу прекратить делать?.. Что сделал? Сел на скамью и замерзаю. А вот зачем: ее лицо очень красиво!»
Я открыл глаза и увидел перед собой пустой сад в снегу и за ним собор, освещенный электрическими огнями.
«Иван Грозный защищал истинную православную веру и с Малютой Скуратовым насиловал и убивал женщин… Все сплетены в единую ткань – чистые, грязные, гениальные, бездарные, святые, грешные, жертвы, палачи, и ни одну ниточку не выдернешь. Не в наших это силах. Нас несколько миллиардов, но мы не можем выдернуть сами ни одной ниточки. А что мы можем сами?»
Шаги…
Из ледяного беззвучия они возникли за моей спиной.
И я сразу услышал их.
Они были направлены не мимо меня, не к какой-то другой цели, но именно в мою сторону.
Здесь, сейчас, я был единственным владельцем этих приближающихся шагов, и снега, скрипящего от их осторожной легкой поступи, и обширного неподвижного воздуха, в котором они звучали, и всего пространства вокруг – ибо та, которая их совершала, шла в этом полутемном вечернем пространстве ко мне.
Она остановилась возле меня – секунда абсолютной сгустившейся тишины – и села на скамью.
За пределами моего зрения она трогала ремешок своей сумки.
Воздух вспыхивал длинными искрами.
Я сидел, сильно наклонившись вперед, спрятав кисти рук в противоположные им рукава куртки – левую кисть в раструб правого рукава, правую – в раструб левого.
– Я боюсь вас, – проговорила она.
Я повернул к ней лицо.
В ее глазах таилась тревога, но было в них и восхищение, как будто, преодолевая страх, она спрашивала: «Если это способно проявляться так сильно, я хочу знать главное!»
– Я очень замерз, – с трудом вымолвил я.
Внезапно от молчания как близки мы стали!
– Сегодня сильный мороз, – произнесла она неловко и, пытаясь выйти из этой неловкости, добавила: – Я зашла сюда случайно, я говорю вам правду. Я могла не прийти.
– Я все равно ждал бы вас, – сказал я. – Но в том, что вы – рядом, моей заслуги нет. Я знал, что вы придете.
– Почему знали? – спросила она тихо, без вчерашнего раздражения, без гнева, почти задумчиво.
– Потому что вы родились для меня. Мне надо было только найти вас. Я нашел.
Она ничего не ответила.
О чем-то думала.
– Пойдемте! – сказала она. – Вам надо согреться. Вы заболеете.
«Она его не любит», – понял я.
В полутьме пустого сада она плыла рядом со мной.
Снег трещал так визгливо, словно мы ступали по осколкам стеклянных бокалов.
Громада колокольни, накреняясь в воздухе, упала позади нас длинной тенью.
От сильного переохлаждения и голода сознание мое мгновениями затуманивалось. И когда Ирина наконец остановилась у двери квартиры и достала из кармана ключи, у меня закружилась голова…
Чем повеяло в мое лицо, губы, ноздри вместе с теплом из этого жилища? Терпким ароматом свежей хвои и медовым запахом акварельных красок.
«Здесь и должно пахнуть хвоей и медом…» – вспомнил я.
О проекте
О подписке
Другие проекты