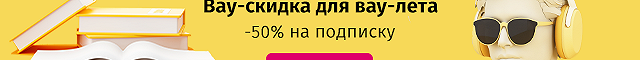
Обычай начинает «ломаться»
Нет никаких оснований считать, что городское население или общественные верхи хоть чем-то отличаются от крестьян – что они менее суеверны, не в такой степени привержены самым диким обычаям, что они более свободны, не так коллективистски живут и так далее.
Но как раз в XVII столетии общинный быт крестьянства начал давать трещину как минимум по двум важнейшим причинам:
1. Очень во многих местах власть общины ослабевает, и человек становится фактически от нее свободным.
2. Сама община начинает превращаться во что-то совершенно другое; пока трудно сказать однозначно, во что именно.
В XVII веке жизнь общины замкнута только там, где от других людей далеко. Там, где только государство или частное лицо может контролировать жизнь общины, они непременно это делают. Цитадель общинности в ее изначальном смысле, когда община – это Mip, средостение власти и общественной жизни для человека, это окраины страны. Места, где и жить труднее, и от власти московского царя подальше.
Там, где власть центрального правительства покрепче, правительство пытается ограничить общину в принятии решений, в праве распоряжения землей.
В поместьях и вотчинах община тоже, и в еще большей степени, «утесняется» в своих правах; ее «исконные» права все больше присваиваются владельцами земель. Там, где раньше распоряжался выбранный староста или голова, появляется тот же староста, но только назначенный.
Mip отвечает за своевременный сбор «государевых податей», а главная обязанность выборных крестьянских властей – «своевременный и бездоимочный» сбор этих податей. Воеводы же не только понуждают и наказывают тех выборных крестьян, которые «оплошкой и нерадением» допускают недоборы и опоздания в платежах, но и пытаются снимать неудобных людей, ставить на выборные должности более «подходящих».
Правительство назначало для каждого округа только общую сумму подлежащего уплате оброка, а затем посадские и крестьяне должны были сами «верстатися» и «разводити» оброк «промеж себя», сообразно имуществу каждого хозяина: «по животам, и по промыслам, и по пашням, и по угодьям».
Тут, конечно, две стороны: в дела общины вмешиваются, общину ограничивают… Но, с другой стороны, у общины появляются новые возможности, а самые активные и самые уважаемые крестьяне становятся прямыми помощниками царской администрации.
Как указывал царь, «чтобы крестьянству убытков и продаж не было, а нам бы челобитья и докуки не было, а посады и волости от того не пустели, велели есми во сех городах и волостех учинити старост излюбленных, кому меж крестьян управа чинити… которых крестьяне меж собой излюбят и выберут всею землею, от которых им продаж и убытков и обиды не было, и рассудити бы их умели вправду безпосульно и безволокитно, и… бы доход оброк собрати умели и к нашей бы казне на срок привозили без недобору».
Это уже не самодостаточная община, живущая в себе и для себя; это уже скорее сотрудничество общины с государством и изменения в самой общине.
Причем и во владениях монастырей и крупных феодалов были элементы самоуправления. В уставной грамоте Соловецкого монастыря, данной Бежецкого верха села Пузырево крестьянам, сказано: «Судити приказчику, а с ним быти в суде священнику да крестьянам пятмя или шестмя добрым и середним».
Спрошу только одно: а чем же эти пять или шесть «добрых крестьян» – да не присяжные заседатели?! Тем, что число людей другое разве что.
В наказе по управлению вотчиной, которую дал боярин Б.И. Морозов в 1651 году приказчику села Сергач Нижегородского уезда, читаем: «И ведать ему крестьян моих и бобылей и судить с старостою и с целовальниками и с выборными крестьяны. А велеть крестьянам всею вотчиною к моим ко всяким делам выбрать 10 человек, крестьян добрых и разумных и правдивых, которым с ним, с приказчиком моим, у дела моего быти… А судить ему крестьян и бобылей вправду, правого виноватым не чинити, а виноватого правым. А где доведетца иттить на землю у крестьян или на меру, и ему ходить со старостою и с целовальником и с выборными крестьяны и розводить вправду без полноровки и безпосульно…»
Как видно, и тут в общине появляется какой-то новый элемент демократического самоуправления: выборные люди, которых контролирует «обчество» и которые несут на себе судебные и административные функции.
На севере и в XVII веке продолжает распоряжаться волостной сход, и этот сход сам ставит должностных лиц, хотя и здесь сход все больше подчиняется надзору воеводы. А самое главное – там, где крестьянство свободно (на севере), община ослабевает еще и из-за того, что укрепляются отдельные хозяйства и становятся активнее, самостоятельнее отдельные люди.
«Московское государство (XVI века) может быть названо самодержавно-земским. С середины XVII века оно становится самодержавно-бюрократическим», – так писал М. М. Богословский в своей замечательной, давно не переиздававшейся книге.
Земский строй слабеет за счет государства, но даже там, где у государства не доходят руки, общинность все равно ослабевает. А ведь демократия, самоуправление возникают именно там, где слабы и община, и государство. На севере – на Вологодчине, в Каргополье, в бассейне Северной Двины, от Холмогор до Архангельска – там ослабевает первобытная община, но там слабо и средневековое государство…
Александр Исаевич Солженицын восхищался швейцарской «демократией, прямо вытекающей из традиций общины», считая ее самой совершенной и, так сказать, самой «народной». В представлении современного россиянина община и демократия есть две вещи, никак не совместные. Но совершенно прав Александр Исаевич: вся европейская демократия вырастала из вот таких общинных и послеобщинных форм самоуправления. Сначала были территориальные общины, умевшие выбрать для самих себя и из собственной среды «добрых и излюбленных» управителей, а потом уже и в масштабах государства появилась «палата общин» (так ведь и называется, как назло!).
Констатирую факт: в Московии XVII века все более укрепляется именно такая «низовая» демократия; общины все активнее принимают на себя функции низовых органов управления.
Напомню еще раз, что эти все процессы идут не в городах, в среде высоколобых интеллектуалов и богатых людей, а как раз в основной массе тогдашних московитов, в крестьянстве.
Крепостное право
В представлении современного человека «государственные крестьяне» – это вообще такие же зависимые люди, как и владельческие, только принадлежат они не частным лицам, а государству. Положение их, может быть, и полегче, потому что они имеют дело с безличным государством, а не с радеющим о своей пользе помещиком, но и только. Точно так же само слово «крестьянин» вызывает ассоциации с бесправием, униженностью, поркой на конюшне и барщиной.
Поэтому нам трудно до конца осознать, что же такое черносошные крестьяне и чем крепостное право XVII века отличается от того, с которым мы имеем дело, говоря о временах «матушки Екатерины».
Суть же дела в том, что если придавать слову «крестьянин» это значение униженности, то черносошные крестьяне – это вообще никакие не крестьяне. Это свободные сельские обыватели, которые пашут землю не потому, что их кто-то принуждает, а потому, что в аграрном обществе это самое выгодное занятие и совсем неплохой способ кормиться.
Точно так же они объединены в общины постольку, поскольку им это выгодно, и до тех пор, пока им это удобно и выгодно.
Они лично свободны, совершенно не согнуты в покорности. Их зависимость от государства – не рабское состояние, а способ включиться в некую государственную корпорацию.
Они ведут свои торговые операции и промыслы, как сами считают необходимым, накапливают богатства, и в их среде усиленными темпами произрастает самый натуральный капитализм. Из среды черносошных крестьян вышли такие богатейшие купеческие фамилии, как Босые, Гусельниковы, Амосовы, Строгановы (те самые: «спонсоры» Ермака, организаторы завоевания Сибирского ханства).
То значение, которое часто придается слову «крестьянин», в XVII веке совершенно отсутствовало. Эта принадлежность к общественным низам, зависимость и «маломочность» в XVII веке ассоциировались разве что со словом «бобыль» или даже «холоп».
В XVII столетии крестьянин был если и ограниченным в правах, то все же подданным царя, а никак не простым рабом барина. Это касается даже владельческих крестьян, сидевших на землях поместий и вотчин, а уж крестьяне церковные, дворцовые и черносошные тем более не имели ничего даже общего с рабами.
Церковные, понятно, сидят на землях монастырей.
Дворцовые, или крестьяне государевы, жили общиной, управлялись дворцовыми приказчиками, но сохраняли выборных старост и по своему положению были ближе к черносошным, чем к владельческим.
Черносошные крестьяне сидели на «государевой земле», то есть на вольных землях, и жили своими общинами. Они и впрямь не были вполне вольными людьми: правительство контролировало выполнение ими своего тягла. Впрочем, уже в IV веке по Рождеству Христову в Римской империи колоны и сервы далеко не всегда могли свободно уйти с занимаемой земли. Из этого вовсе не следовало, что они становятся частными или государственными крепостными, отнюдь! Они были «крепки земле» и не должны были с нее уходить, не оставив вместо себя заместителя, и только.
Почти так же и современное государство, вкладывая во что-то деньги, старается потратить их не зря: вводит систему лимитной прописки, ограничивает выезд за границу тех, кто столкнулся с государственными тайнами, требует, чтобы получившие бесплатные дипломы отработали по распределению и так далее. Говоря откровенно, я не вижу здесь крепостничества, хотя и вижу некоторые ограничения прав и свобод.
Так же точно и черносошные крестьяне-домохозяева, входившие в тяглые «общества» и записанные в податные списки «тяглые и письменные люди», были прикреплены к своим обществам и не могли покидать своих дворов и земельных участков, не найдя заместителей.
Ограничения свободы – налицо. Но Ключевский полагал, что «такое прикрепление, разумеется, не имело ничего общего с крепостным правом», и с ним остается согласиться.
«Закрепощался» только сам тяглец-домохозяин. Каждый крестьянский двор представлял собой что-то вроде небольшой артели, состав его был куда как разнообразным и сложным. Кроме хозяина, там жила огромная семья – очень часто вплоть до внуков и правнуков, и родственники или работники – «захребетники», «суседи», «подсуседники». Положение «закрепощенного» большака было для них крайне престижным. Если бы большак захотел, он без малейшего труда поставил бы вместо себя кого угодно из этой «меньшой братии», а сам стал бы «свободным» человеком.
Что же до самой этой «братии», живущей в хозяйстве кроме большака, то она была свободна как ветер, и никому не пришло бы в голову удерживать любого из них, вздумай уйти хоть все, хоть по одному все «суседи» и «подсуседники». Разве что сам глава этой патриархальной крестьянской артели, большак, огорчился бы временному отсутствию рабочей силы.
Среди черносошных крестьян были и весьма богатые крестьяне, занимавшиеся не только земледелием, но и торговлей и разными промыслами; обычно они пользовались наемным трудом. Были «среднезажиточные», а были совсем «маломочные». Известны и «половинники», то есть батраки, обрабатывавшие чужую землю за часть урожая.
Кроме собственно крестьян-тяглецов, в черносошных общинах жили еще так называемые «бобыли» – обычно ремесленники или наемные работники, то есть сельское население, но не тяглое; те, кто изначально земли не пахал.
Были, правда, и «пашенные бобыли», владельцы небольших участков земли. Само их существование доказывает: землю можно было купить и продать. Иначе откуда бы взялась земля у «пашенных бобылей»?
Впрочем, М.М. Богословский давно и совершенно определенно писал: «Владельцы черной земли совершают на свои участки все акты распоряжения: продают их, закладывают, дарят, отдают в приданое, завещают, притом целиком или деля их на части».
Этот крестьянский капитализм зашел так далеко, что возникли своего рода «общества на паях», союзы «складников», или совладельцев, в которых каждый владел своей долей и мог распоряжаться ею, как хотел: продавать, сдавать в аренду, подкупать доли других совладельцев, а мог и требовать выделения своей доли из общего владения.
М.М. Богословский писал: «В северорусской волости XVII века имеются начала индивидуального, общего и общинного владения землей. В индивидуальном владении находятся деревни и доли деревень, принадлежащие отдельным лицам, на них владельцы смотрят как на свою собственность: они осуществляют на них права распоряжения без всякого контроля со стороны общины. В общем владении состоят и земли, и угодья, которыми совладеют складничества – товарищества с определенными долями каждого члена. Эти доли – идеальные, но они составляют собственность тех лиц, которым принадлежат, и могут быть реализованы путем раздела имущества или частичного выдела по требованию владельцев долей. Наконец, общинное владение простирается на земли и угодья, которыми пользуется как целое, как субъект… Река с волостным рыболовным угодьем или волостное пастбище принадлежит всей волости, как цельной нераздельной совокупности, а не как сумме совладельцев».
Право же, тут только акционерного общества и биржи не хватает! Или до этого просто не успело дойти дело?
М.М. Богословский сравнивает положение черносошных на Руси и положение вольных крестьян-бондэров, или бондов, в Норвегии, вольных бауэров в Германии, находя множество аналогий.
Со своей стороны, автор только хотел бы смиренно напомнить, что север Московии – это коренные земли Великого Новгорода. И что Великий Новгород и в XIV, и в XV веках, до самого своего убийства Москвой, развивался как одна из циркумбалтийских, то есть «вокруг балтийских», цивилизаций.
И этих крестьян очень много: более 50 тысяч дворов, то есть патриархальных артелей, а всего никак не меньше полутора миллионов человек.
Причем не только ведь на севере, но и в центре Московии, в самом сердце Великороссии, в XVII веке есть черносошное крестьянство. Солидный советский справочник отрицает это: «К середине XVI в. Ч.к. исчезли в центр. р-нах страны, но сохранились на севере».
По этому поводу я только позволю себе привести такой небезынтересный эпизод: в 1634 году был случай, когда часть из отличившихся во время Смоленской войны правительство решило сделать помещиками. Но крестьяне, жившие возле Арзамаса (далеко не север!), не захотели становиться владельческими и прогнали незваных помещиков дубьем.
Здесь много чего можно спросить, в том числе: что же это за профессиональные воины, которых мужики гонят дубьем? И что же это за героические крестьяне? Но в любом случае факт любопытнейший, и я совершенно не допускаю мысли, что составители Большой советской энциклопедии не знали бы этой истории и что они не слыхали ничего про вольных крестьян центральной Великороссии. И потому вопрос имеет смысл задавать только один: кому в 1978 году до такой степени не хотелось, чтобы россияне знали бы не мифы, а свою настоящую историю?
На севере, правда, черносошных несравненно больше; есть даже такое понятие, как «черносошные волости», то есть обширные области, где владельческих крестьян вообще нет, все исключительно вольные. В центре страны все это не совсем так, черносошные и владельческие крестьяне живут чересполосно, но, во-первых, вольные «государевы хрестьяне» там тоже есть. А во-вторых, положение владельческих крестьян не так уж сильно отличается от положения черносошных.
То есть отличается, конечно, и в худшую сторону, даже притом, что государственные подати владельческих крестьян значительно меньше, чем у черносошных, но ненамного. Суммарно же они платят больше.
Но главное, государство и после Уложения 1649 года не отказывается видеть во владельческих крестьянах своих подданных: они платят государевы подати, они не лишены личных прав; помещикам запрещается «пустошить» свои поместья; правительство не отказывалось от своего права наказывать злоупотребления помещичьей властью.
Был, например, случай в 1669-м, когда «великий государь указал стольника князя Григория Оболенского послать в тюрьму за то, что у него в воскресенье на дворе его люди и крестьяне работали черную работу да он же, князь Григорий, говорил скверные слова».
Не сомневаюсь, что после этого случая не один помещик говорил «скверные слова» в адрес правительства, но ведь случай очень назидательный!
Владельческие крестьяне были кем угодно, но не рабами, их «крепость земле» вовсе не означала одновременной «крепости владельцу». Помещики и владельцы вотчин нарушали права владельческих крестьян – продавали их без земли, меняли на холопов, разбивали семьи. Историки справедливо отмечают, что таких случаев становится больше только к самому концу XVII столетия. По мнению В.О. Ключевского, это признак нарастающего закрепощения, симптом того, что все идет к полному превращению владельческого крестьянина в вещь. И боюсь, что это один из тех пунктов, по которым невозможно согласиться с В.О. Ключевским.
Потому что, во-первых, нарушались и нарушаются права самых различных людей, и вовсе не одних владельческих крестьян на Руси XVII века. Недавно, например, мои права нарушил один очкастый чмырь, напечатавший в газете мой рассказ под своей фамилией (думал, наверное, что я об этом так и не узнаю). В те же сложные времена права даже людей из феодального сословия мало чем были защищены и нарушались очень часто.
О проекте
О подписке