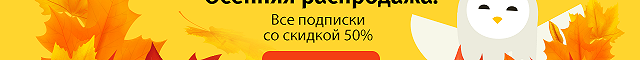
БЫЛО НАЧАЛО
– В сорок первом, – рассказывал мой отец, – был страшный урожай на белые грибы.
Он тогда работал учителем в деревне Ескино, а жил на квартире у одной старушки километра за два от школы.
– И вот, – рассказывал, – встаю я чуть свет, корзину на руку и – в лес. За пятнадцать минут нагружу ее и – домой, а у бабки уже и печь скрыта. Тут же режет грибы и на протвини сушить…
Чаю напьюсь и – на работу. Опять же с корзиной. Пока иду до школы, наломаю под елками полную корзину белых. Да из школы вернусь, пару раз сбегаю до лесу. А лес прямо за двором начинался.
Бабушка не успевала резать да сушить.
– Всяко, говорит, – такой урожай к войне. Грибов к войнам всегда много растет… Примета такая.
А чего примечать. Война уж к Москве прикатилась. В октябре забрали его на фронт. Оставил он бабке целый наматрасник сухих белых грибов.
– Все, думаю, бабке подспорье на зиму-то, – говорит. – А уж к весне разберемся с фрицами, начнем новую жизнь.
А вернулся он только летом сорок пятого. Пришел к бабке опять же на квартиру.
Бабка встретила, как родного. Достала из печки чугун с варевом.
– Седни, – говорит, – у меня грибовница. Из тех грибов, что ты оставил. Пять лет уж кормлюсь ими. Да сколько передавала эвакуированным из Ленинграда. Погляди вон на полатях наматрасник с грибами.
КАК Я НЕ СТАЛ ПОЭТОМ
Недавно перебирая старые архивы, я наткнулся на тетрадь, в которой было записано стихотворение, сочиненное в десять лет, когда возвращался из интерната домой. Это было зимой шестьдесят второго года. Вот оно, это стихотворение:
«Задремало солнце
За большой горой.
Снег колючий с ветром
Поднимает вой.
Не видать на небе
Звездочки одной.
Я спешу до дома
К мамочке родной.
Ни коня, ни трактора
На моем пути,
Километров двадцать
Мне пешком идти.
Спите себе волки
В логове своем,
Пронесите ноги
Через лес бегом.
Вот и лес остался
За моей спиной,
Все еще не скоро
Попаду домой.
Вьюга разыгралась,
Так и валит с ног,
Но иду упорно,
До костей продрог…
За плечами сумка,
В сумке той дневник…
С круглыми пятерками
Вернется ученик.
Замелькали в поле
Огоньки домов…
«Напекла, наверное,
Мама пирогов…»
Вот крыльцо знакомое,
Снег лежит вокруг…
И скорей по лесенке,
В двери – «стук да стук»
На пороге папа
Руку подает…
На рыбалку с сыном
Завтра он пойдет…
Мама обнимает
Своего сынка,
Я кричу: «Скорее
Дайте пирожка!»
…В ту ночь уже за чаем я прочитал эти свои строки родителям. Мать моя была потрясена. Сначала она не поверила, что это сочинил я, но когда отец, учитель сельской начальной школы, подтвердил, что, скорее всего, это написано мною, а не кем-то другим, мать заставила меня переписать стихи в тетрадку. Рано утром она сбегала к соседям и почитала им мои стихи. Стихи соседям понравились, они тоже были немало удивлены, что в нашей деревне завелся хоть и маленький, но поэт…
Потом родители собрались на реку полоскать белье. Меня они не взяли. Матушка положила мне на стол чистую тетрадь и карандаш и наказала строго, чтобы к их возвращению я написал новое стихотворение. Мне хотелось поудить окуней, но я повиновался. С матерью моей даже отец, имевший в деревне непререкаемый авторитет, не решался спорить.
Полдня я маялся за столом, пытаясь хоть что-то накарябать в тетрадке. Я пытался сказать поэтическим слогом что-то про освоение Сибири, строительство Братской ГЭС, покорении космоса… Увы, вчерашний дар оставил меня…
После обеда я снова ушел в интернат. Была метель, колючий снег, темное небо без звезд… Не было только стихов.
Я еще не знал, что примерно в то же время большой поэт Николай Рубцов застигнутый в дороге ночью написал:
«Погружены в томительный мороз
Вокруг меня снега оцепенели,
Оцепенели маленькие ели,
И было небо темное без звезд…
В такую ночь я был совсем один…»
НА БОЛОТЕ
Тихо в лесу, только лист под ногами шуршит, да слышно, как холодные капли с голых ветвей падают на землю, похожую на цветное лоскутное одеяло.
Утром, когда на болото собирался, бабушка предупредила:
– Что ты, Господь, с тобой. В лес собрался! На Ерофея не ходят по лесам да болотам. А ты не знал? На Ерофея то мученика лешие безобразничают весь день и ночь, а к утру, после пения первых петухов, проваливаются сквозь землю на всю зиму, пока весной не оттают. Народ в этот день в леса не ходит.
Но я пошел. Мало ли каких сказок бабушка еще нарассказывает. И зря не послушался.
За Ванеевым за речкой в подлеске, которым столько раз проходил на болото, вышел я на торную тропу, и подивился:
– Это ж, сколько по ней ягодников и грибников прошло, что бы так ее натоптать? – Я встал на нее и бодро зашагал, хотя видел, что идет она по касательной к болоту.
– Люди знают, – подумал я.
Через полчаса я вышел на старый заросший покос. Болото осталось за спиной. Я снова встал на тропу и пошел назад. Через сорок минут я вышел на другой покос, на котором давно не гуляла коса, затянувшийся дурной травой.
– Что за черт! – выругался я, оставил тропу и пошел на болото напрямик.
Обратно я возвращался уже в сумерках довольно уставший. И только вступил я в приболотье, как тут же под ноги угодливо попалась мне такая же хорошо убитая тропа.
Я соблазнился встать на нее, не хотелось лезть через чапыжник. И я пошел этой тропой и скоро вышел на заросший покос. Я пошел обратно и снова вышел на покос. Стало не по себе. Я вернулся, в лесу эту тропу пересекла другая, которая, явно вела в деревню… Я слышал, как в деревне лают собаки… И я пошел. К ужасу моему я опять выбрался на заброшенный покос. Я вспомнил бабушкино предупреждение про нечистую силу, которая беснуется в эту ночь по лесам.
Было уже темно. И тут я услышал, что за моей спиной раздался отчетливый стук копыт…
– Вот оно, – похолодел я, и машинально отступил в кусты…
Удары копыт повторились совсем рядом, я замер. Сквозь ветки я увидел прямо перед собой жуткие очертания какого-то лохматого лесного чудовища. Огромный глаз его тускло отсвечивал. Он видел меня…
Я взвыл! И тут же раздался страшный треск, существо это ринулось от меня в заросшие покосы и тут же исчезло, и только грохот копыт долго еще отзывался эхом в пустынном лесу.
В календаре земледельца о Ерофее говорится так:
– «С Ерофея холода сильнее.
С Ерофея зима шубу надевает. На Ерофея – буйствуют лешие. Они «дурят в лесах»: бродят, … кричат, хохочут, хлопают в ладоши, ломают деревья, гоняют зверей и проваливаются. На Ерофея лешие пропадают.»
Я не помню, как я выскочил в деревенскую поскотину. Тускло и покойно горели огни в домах. Я утихомирил сердце и постучал в первый попавшийся дом. Там жили родители моего одноклассника. До своей деревни было еще километра три.
– Кого хоть видел я приболотье? —Спросил я их за чаем.
Они засмеялись.
– Это Серко. Бывший колхозный конь. Конюх умер, некому стало его обихаживать. Вот он и поодичал. Набил в лесу троп, пасется на старых покосах.
Домой прибежал я уже с легким сердцем.
СВОЙ ПАРЕНЬ!
Когда мой отец вернулся с войны, то построил совсем новую школу в деревне Ескино и стал в ней директором. Было это в Ярославской области. А жили мы в двух километрах в деревне Новинке. Новинка была центром сельсовета. Мне было два года, когда мы выехали из Новинки. Спустя пятьдесят лет я оказался там по приглашению учителей Ескинской школы, которые открыли уголок памяти в школе, в котором главным героем был мой отец.
В деревне все заросло высоченной травищей, торчали из нее крыши да трубы. Только тропы были набиты сквозь траву от дома к дому да на кладбище.
Мы с матерью и теткой шли этим коридором среди травяных джунглей, и я увидел, как выходит из одной избы древняя бабка, опираясь на батог. За ней шла другая, чуть помоложе. Тут со всех сторон начали еще бабушки к нам подтягиваться.
И вот первая, самая древняя, вдруг остановилась и стала кланяться мне в ноги. Я оторопел.
А бабушка и говорит:
– Здравствуй, Анатолий Константинович! А батька-то твой, каким человеком был!
Меня словно молнией ударило.
– Откуда вы меня знаете? Ведь мне всего два года было, когда мы переехали.
– Так как же, – отвечает бабушка, – телевизор-то мы смотрим.
Вот ведь какое дело! Я в два года покинул эту деревню, а они-то все это время следили за мной; « Наш парень-от, наш!»
…Деревня своих не забывает и не бросает. Худой, да свой!
И мне до сих пор стыдно, что я только после 50-ти сделал такое важное открытие.
МОЛОДИТ!
Вечером закат алеет красной девкой. Мороз крепчает. Все еще каникулы.
Я едва тащусь деревенской улицей. Одежда на мне стоит колом и гремит, будто это не фуфайка и хлопчатобумажные штаны, а рыцарские доспехи. Я толкаю дверь и падаю, гремя ледяными доспехами возле спасительной печки.
– Молодит, – говорит бабушка, выглядывая на закат в окно. Это о погоде.
Скоро уже и ночь раскидывает свою бархатно-черную шаль, усыпанную сияющими звездами. Кутается деревня в сугробы, запасая на ночь тепло… Дымы из труб подпирают небо.
Я освобождаюсь, наконец, от ледяных оков, уже парящих от печного тепла, переодеваюсь в сухое, и выскальзываю на улицу, чтобы поймать последний закатный луч.
На сугробах, выросших вровень с крышами, с прошлой ночи остались следы волчьей стаи, выжатой голодом и стужей из леса. Вот опять они рядом. С речной плотины доносится до нас их заунывный вой. Наш пес поджимает хвост, и шерсть на его загривке встает дыбом.
Мне жалко пса, пожалуй, эту ночь ему не пережить. И я пытаюсь затащить его в дом. Но это удается с трудом. Пес упирается так, как будто в доме с него собираются снять шкуру, как снимают ее люди…
Мы еще не спим, а пес уже сомлел от тепла неожиданно вернувшегося лета, и спит на половиках, откинув хвост и раскидав лапы.
Но сон его тревожен. По морде, то и дело, пробегают тени. Лапы его судорожно дергаются, словно он пытается из последних сил убежать от преследователей…
Снова приносит с плотины мороженый воздух в деревню леденящий душу волчий вой.
Но ты уже в сладких объятиях русской печи, где знойно пахнет закваской, каленой глиной, полушубками, валенками и травами далекого лета…
ОДНАЖДЫ В ИЮЛЕ
…Стоял июль-грозник, самая макушка лета. Солнце хоть и жарило, но не было того испепеляющего зноя, поскольку то и дело за речкой над боровыми кряжами вспухали грозовые перевалы и шли, грузно и грозно на лесные поселки, разгоняя деревенскую живность по дворам, покосников – по шалашам. Шли короткие грозы с неистовым сверканием молний, ворчанием и грохотом, веселыми ливнями, после которых дышалось легко и вольно…
Лешка вернулся из леса, где собирал морошку. Мать уже целую бочку этой волшебной ягоды, стоявшую в чулане, залила студеной ключевой водой. Зима все приберет…
Он искупался в реке и, отобедав, вышел на улицу погулять. Лешке тогда было лет двенадцать. Сталин еще был силе и правил страной мудро и бережно. Так, по крайней мере, рассказывали по радио и в газетах. Да и в самом деле лесные поселки благоденствовали. Пережили войну, ребятишек на улицах порхало, что воробьев, работа была, хлеба было в достатке…
Лешка выбрался за околицу к конюшне, где вокруг лошадей всегда крутилась ребятня. Он тоже хотел взять коня, чтобы искупать его на омуте.
На берегу речки паслось поселковое стадо. Здесь были овцы с ягнятами, козы с козлятами, тут паслись и телята. Коровы паслись отдельно. У них был свой взрослый пастух. А мелко-рогатую скотину обычно пасли ребятишки.
Нынешним летом на весь сезон была подряжена Любашка Лесникова, девчонка из большой многодетной семьи, которая осталась без кормильца – отец погиб на фронте.
Старшие братья Любашки уже подросли, примеряли на себя мужскую работу в лесу, но нужда все-таки заставила отдать девчонку в пастушки.
Почему-то Лешка давно выделил эту девчонку среди всех остальных. Они жили по—соседству. Зачастую Любашка, заигравшись, ужинала у них, а заигравшись, вместе с детьми спала на широкой печи…
Но было в ней что-то такое, чего Лешка не мог объяснить. Она была года на три старше Лешки. И когда они баловались на печи, она вдруг затихала, замирала, и Лешка ощущал на себе ее внимательный, испытующий взгляд, от которого непонятно почему у Лешки начинало обносить голову.
Ему уже не хотелось больше шалить, бороться, смеяться… Вслед за ней и Лешка замирал, прислушиваясь к себе. Любашка смотрела на него, и он смотрел на нее и не мог отвести взгляда, хотя ему хотелось в это время сбежать, спрятаться куда-нибудь, чтобы никто не заметил его смущения и замешательства, чтобы одному пережить непонятное томление в груди.
Кое-что Лешка уже понимал в этой жизни. Он знал, что между мужчинами и женщинами существует любовь. Что все обитающее на земле, живет парами, и от этой совместной жизни заводится потомство.
Лешка знал, как это происходит. Но все это было как-то примитивно и тупо, некрасиво, что он не мог перенести это действо на себя…
Он представлял, что любовь между людьми должна свершаться где-то в поднебесье, в цветущих кущах одним лишь сплетением рук, движением губ и блеском глаз…
…Любашка лежала на берегу, закрыв платком лицо от солнца. У Лешки перехватило дыхание. Платье у нее было задрано, почти целиком обнажая крепкие загорелые ноги.
Лешка остолбенел и стоял недвижимо над девчонкой, которую знал уже несколько лет, с которой ели из одного блюда, с которой делили одеяло на печи… А тут, на его глазах девчонка превращалась в девушку, как будто это был цветок, раскрывавший свои лепестки под солнцем.
Любашка почувствовала присутствие человека, поправила платье и стащила платок с лица.
– Ты, Леша, не на конюшню? Возьми на меня Звездку или Челку. Вместе в омуте искупаем их.
Звездка и Челка, хорошо знакомые и любимые детьми лошади, на которых возили из лесу бревна на складку, которых они кормили кусочками хлеба и купали в реке, сегодня уже не были прежними Звездкой и Челкой. Сегодня их крыли…
– Звездка! Челка! – Кричали дети, протягивая кусочки хлеба. – На-на-на!.
Но лошади не отзывались, даже ушами не прядали, они, словно погрузились в какие-то неведомые людям раздумья, далекие от мирской суете, и только иногда под кожей у них пробегали нервные импульсы. Они покорно дали завести себя в деревянные станки для случки и терпеливо стояли в ожидании судьбы, изредка поглядывая на тесовые ворота конюшни…
Там, где в темной утробе конюшни, в отдельном кабинете стоял
племенной жеребец Маяк, слышались глухие удары и нетерпеливый стук копыт, ржание, схожее с раскатами грозы.
Звездка и Челка отвечали на этот любовный призыв кротко и скромно…
Конюшней заведовала Лешкина мать, и все, что происходило с лошадьми, чтобы они были не только вовремя накормлены и напоены, но и покрыты вовремя жеребцом, чтобы приносить здоровое потомство, все было ее заботой..
…Было уже около полудня. У изгороди стояли несколько человек, пришедших поглазеть, как будут крыть лошадей. Тут были и мужики, и бабы, и ребятишки, словно воробьи, облепившие изгородь.
Похоже, и люди вместе с лошадьми испытывали какое-то внутреннее напряжение и нервную дрожь.
Тут внутри конюшни раздались крики:
– Открывай, давай! Не удержим!
Ворота распахнулись, и на яркий солнечный свет, хрипя и сотрясая ржанием пространство, вылетел Маяк. Он весь был, как один сплошной мускул, Шея, ноги, круп… каждым движением показывали его неукротимую мощь и силу. Шерсть его лоснилась на солнце, грива и хвост струились тягучей волной.
Жеребца держали на веревках два мужика. При каждом движении коня железная узда врезалась в бархат губ и удерживала его на месте.
Казалось, с выходом Маяка мир незримо изменился. Его обволокло невидимым тягучим мороком, под который попали все: и смиренные лошади, и пришедшие поглядеть на случку мужики и бабы, и дети, облепившие изгородь…
Маяк, увидев лошадей, ожидавших его выхода, презрев боль, взвился на дыбы, оглашая окрестность торжествующим любовным призывом…
И тут Лешку кто-то дернул за порточину. Это был новый начальник лесоучастка.
– Вот что, Леша, – сказал он, прищурившись, оглядывая фигуру парнишки, – Завтра чуть свет отправляйся-ка ты в Усолье в банк за деньгами. Больше послать некого.
– Ладно, – тут же согласился Лешка, радуясь возможности совершить увлекательную прогулку и побывать в райцентре.
– Тогда пошли в контору, дадим тебе записку в банк. Котомка у тебя какнебутная есть под деньги?
О проекте
О подписке