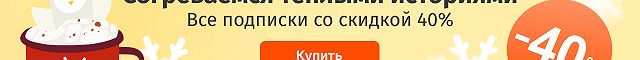
3. За резной ширмой
Когда в покои госпожи входит Хазнедар гарема, я прячусь за тяжёлой шёлковой портьерой, почти не дышу. Мустафа лежит рядом, вытянувшись на ковре, рисует пальцем узоры. Медленно, будто боится задеть воздух. Мы оба знаем, что не должны быть здесь. Нам приказано играть тихо, как мышата, и никогда – слышишь, никогда – не влезать в дела взрослых.
Но мы уже внутри.
Покои валиде пахнут маслом гвоздики, смолой и чем-то едким, как благовония в мечети, но крепче, словно дым от власти. Ветер из решетчатого окна треплет занавес, щекочет меня по щеке. Я сижу, поджав ноги, греясь о ковёр, в котором утонуло детство многих шехзаде до нас.
Теперь Мустафа дремлет, прижавшись ко мне. Его голова пахнет горячим молоком, а волосы щекочут мне плечо. Он тяжёлый, как будто в нём сразу два сердца, и оба утомились.
Я не двигаюсь. Даже когда он пускает слюну мне на кафтан. Даже когда нога затекает. Даже когда хочется чихнуть.
Мы сидим под резным столиком с узорами, в которые можно смотреть часами. Там, в виноградных лозах, целая армия грифонов, что едят свой хвост. А ещё, дырочка в резьбе. Через неё видно, как качается бахрома на покрове трона. Если чуть наклониться, видно край мраморной скамьи. А за ней, два силуэта, затянутых в золото и напряжение.
Валиде и мой отец.
Повелитель мира и его мать. Но, глядя на них, я не уверен, кто из них повелитель.
– Я явился по вашей просьбе, моя валиде…
Сафие-султан не двигается. Даже голос её не шелохнётся. Он как ковер, плотный и ручной работы, под которым ловушка.
– Мы не просили. Мы – велели.
Я вижу, как отец сглатывает. Не слышу, а вижу. Его кадык дергается, как у испуганной птицы.
– Конечно… Простите, я… я не подумал.
Сафие-султан сидит прямо, спина будто прислонена к невидимому трону. Голос её не громкий, но в нём больше силы, чем в сотне янычар. Она не говорит – она решает.
– Думать – вот твоё дело, – говорит она, – Но думать так, как выгодно нам. Если думать иначе – падают не те головы.
Я кладу руку на грудь Мустафы, чтобы он не проснулся.
Он всё ещё спит. Ему снятся простые сны, где всё можно построить заново, если разрушить.
Мне – нет.
– Мы надеемся, – произносит она, как будто это благословение, – что ты осознаёшь важность этого решения.
Она всегда говорит «мы». Я слышал эту легенду от Калфы: будто в ней живёт сразу два человека – венецианская принцесса и рабыня-албанка. Не гордость это, нет. Так даже Аллах говорит: «Мы создали», «Мы повелели». Это конечно про власть, но через смирение. Как будто весь дворец помещается в её груди, а империя – у неё под ногами.
Отец-повелитель… он словно мальчик. Он не султан – он провинившийся сын. Он кивает, глядит вниз, как будто взгляд матери жжёт ему лицо.
– Ты должен помнить, кто стоит за твоей властью, – продолжает она. – Без нас ты был бы лишь одним из многих шехзаде. Слабы, как младенцы. Незаметны, как моль.
Я сжимаюсь. Сердце стучит не в груди – в горле. Я чувствую, как рядом Мустафа легонько шевелится. Мы оба слышим имя. Махмуд.
– Мы знаем, что Махмуд вызывает вопросы, – говорит она. – Но мы также знаем: слишком много шехзаде – слишком много крови в одном сосуде. Он лопается. Вы хотите стать отцом собственной гибели?
Отец молчит. Потом – еле слышно:
– Он ещё ребёнок…
– Мы не позволим тебе быть слабым, – режет воздух её голос. – Ты – султан. А мы – причина этого. Если ты не примешь решение, мы примем его за тебя. И ты знаешь: мы всегда правы.
На мгновение наступает тишина, такая густая, будто комната заперта в стеклянный сосуд. Я слышу, как в груди у Мустафы шевелится страх. Слышу, как в моей груди – тоже.
Отец склоняет голову. Он словно падает внутрь себя. Султан Османской империи выглядит как мальчик, забывший урок.
– Мы хотим, чтобы ты помнил, – говорит валиде уже мягче, почти ласково, как дует ветер с ядом. – Твой долг – защищать династию. Даже если придётся пролить ту кровь, что ближе всего к тебе.
Отец поднимается. Его шаги, будто по камням под водой. Тяжёлые, вязкие. Он выходит, не оборачиваясь.
В комнате снова только она. Валиде. Сидит молча, глядит в стену, как будто за ней тайна, которую не расскажешь никому. Потом вздыхает. Легко, почти по-женски. И приказывает позвать служанку. Чай.
Она встаёт.
Направляется к нашему укрытию.
Шаги.
Медленные.
Растянутые.
Как будто не ноги, а молитвы касаются ковра.
Валиде приподнимает занавесь.
Смотрит прямо на меня. Не удивляется.
Она всегда знает, где я.
– Ты подслушивал, мой шехзаде?
Я качаю головой. Лгу.
Она улыбается.
Её улыбка, как шелковая петля. Мягкая. Но если дёрнуть – душит.
– Мы тебе верим, Ахмед… Потому что ты – умён. А умным не обязательно говорить вслух, что они знают.
Она уходит.
Мы с Мустафой остаёмся в нашем укрытии, пока не уверены, что можно дышать.
Когда я вылезаю, ноги дрожат. Я смотрю на Мустафу. Он белый, как мраморный пол у шадирвана. Мы не играем больше. Мы – свидетели.
– Ты слышал? – шепчу.
Он кивает.
Я не говорю, что понял. Но я знаю. Не отец – нет. Это она. Она – глаз, что видит. Уста, что говорят. И перст, что указывает на смерть.
4. Тень внутри
Я иду один.
Мустафу увели – одна калфа подняла его с ковра, как узелок белья, и унесла, не глядя на меня. Мне не сказали, куда идти. Никто не искал меня. Но я сам не знал, куда исчезла моя тень.
Я брожу по коридору с узорами, как по чужой коже. Евнухи скользят мимо, не замечая. Или делают вид. Мальчик без глаз, без языка, с чёрной отметиной между рёбер – свидетелю нельзя быть живым.
Я встаю у решётки, за которой двор. Там журчит фонтан. Белые голуби, жирные от еды, ходят между плит. Один клюёт крошку и глядит на меня, как будто знает. Я хочу заплакать. Не от страха. От того, что уже не могу быть просто шехзаде Ахмедом.
Мне всего восемь. Но я знаю, как звучит приговор. Он – не крик, не гнев, не визг. Он звучит тихо. Как чай, налитый в чашку. Как слово «мы», произнесённое женщиной, сидящей на троне без короны.
Я прячусь в углу, между павильоном для обрезаний и резными мраморными перилами. Через отверстия виден Босфор. Я сажусь на ступеньку. Камень холодный, как утро после казни.
Я вспоминаю, как отец смеялся, подбрасывая меня в воздух. У него тогда были сильные руки. А сегодня он не мог поднять даже свой взгляд. Он согнулся, как дерево, что забыло, где у него корни.
Я сижу долго. Мир плывёт, а я сижу на месте. Внутри меня прорастает то, чего не было раньше. Будто маленький, ядовитый росток. Он не цветёт. Он впивается. Он говорит: запомни. Никому нельзя верить. Даже крови. Особенно крови.
Если ты хочешь жить – ты должен видеть всех. Слышать всех. А сам – быть тенью.
И когда-нибудь… когда придёт твой час – не дрожи. Как он.
Я встаю. Смотрю на голубя. Он больше не смотрит на меня.
Я Ахмед. Я сын султана. Я внук женщины, чьё слово весит больше меча.
А я всё слышал.
5. Вдох свободы
Я Ахмед. Я помню тот, другой воздух. Он был тёплый, медовый, как из чаши с шербетом, в которую уронили солнце. Маниса пахла сладким дымом и пыльной кожей лошадей. Там всё будто бы медленно и лениво смеялось: ветер в виноградниках, вода в кувшинах, даже петухи по утрам, словно зевая, кричали без злобы.
Мы с Мустафой катим колесо. Большое, деревянное, с медными шипами, оно когда-то стояло на арбе, но теперь, оно часть нашей крепости, нашей галеры, нашей осадной башни. Мы короли дороги. Он визжит от радости, бросает в меня комом сухой земли. Я отмахиваюсь, смеюсь, падаю, прижимаю его к себе. На миг он замирает, тёплый и живой в моих руках, а потом снова бежит, будто вся земля ему принадлежит.
Когда я поднимаюсь, одежда в пыли, пальцы в ссадинах, и мне от этого хорошо. Потому что здесь, ещё не живёт страх. Здесь – мать не плачет в подушку. Здесь – брат шехзаде Селим ещё жив.
Позже, в тени сада, я сижу у ног Мустафы-аги. Он чертит углём круги на гладком камне и говорит:
– Шехзаде, власть – это не венец, а водонос. Кто носит воду, пьёт последним.
Я не понимаю, но киваю. Он продолжает рассказывать истории из прошлого нашей великой династии. О великих предках Мехмеде Фатихе и Сулеймане Кануни. Камень пахнет пеплом. Голос Мустафы-аги, как трещина в стекле: тихий, но если прислушаться, становится страшно.
Вечером отец выходит к людям. Я стою на балконе и смотрю в щели решётки, как он поднимает руку. Его кафтан словно соткан из самой тьмы ночного неба. Толпа замолкает. Даже воздух замирает, как будто не смеет дышать без его дозволения.
Он говорит о налогах, о стражниках, о плохом урожае. Но я слышу другое. В его голосе – меч. Тот, что может расколоть даже камень. Я шепчу себе: он не просто человек. Он – меч, выточенный для рассечения судеб.
Позднее матушка находит меня в пустой зале. Она садится рядом, укутывает меня в свою шаль, и я слышу, как её сердце бьётся – как глухой барабан на параде.
– Всё скоро изменится, мой шехзаде, мой лев, – шепчет она так тихо, что её слова кажуться частью воздуха, текущего сквозь решётки окна. – Мы поедем в Стамбул. Будем жить в Сарай–и Хюмайун – дворце повелителя… Дарюссаадэ, как его называют некоторые. Дом благословения.
Она делает паузу, словно проверяя, слышит ли я её сердце. Её пальцы касаются моей руки, будто хотят оставить метку на коже.
– Там… там всё другое, Ахмед. Там живут не только львы, но и те, кто их приручают. И те, кто ставит капканы. Иногда это одни и те же люди. Поверь мне, мой мальчик, – её голос дрожит, но не от страха, а от чего-то более глубокого, – быть сыном султана – это не дар. Это долг. И цена за него всегда высока.
Я чувствую, как её дыхание становится тяжелее, будто каждое слово вырывается из неё вместе с кровью.
– Ты должен быть тенью, пока не станешь солнцем. Но помни: даже солнце может погаснуть, если тучи слишком густые. И иногда самая большая угроза исходит не от тех, кто хочет тебя уничтожить, а от тех, кто говорит, что любит тебя больше всех.
Она замолкает. Её взгляд уходит куда-то далеко, за пределы тех стен. Я хочу спросить, что она имеет в виду, но её глаза возвращаются ко мне, и в них – предупреждение.
– Запомни, мой лев: во дворце каждый камень хранит секрет. Каждая тень следит за тобой. А каждый шаг… каждый шаг может стать последним. Запомни…
Я не спрашиваю, зачем. Я знаю – это не просьба. Это пророчество.
Позднее, ночью, я слышу, как кто-то во дворе играет на сазе. Звук доносится по ветру, будто тонкая нитка из золота. Я лежу с открытыми глазами и думаю: там было всё настоящее. А здесь – будет иначе. Здесь меня будут гладить по волосам, чтобы узнать, не пора ли их срезать.
И я уже не уверен, хочу ли оставаться здесь.
6. Шаг к тишине
Я ищу Махмуда весь день.
Он не в саду, где мы прятались за кипарисами, не в зале, где вырезали из воска человечков и закапывали их в песок – «чтобы они потом вырастали страшными», как говорил он.
Не в библиотеке, где мы читали Коран, а он шептал мне, что страницы пахнут пылью и стариком, а я всё равно гладил их, как шёлк. Тогда ему было столько же, сколько сейчас мне.
Сейчас же страницы не пахнут. Сегодня они будто слиплись. Закрылись изнутри.
О проекте
О подписке
Другие проекты