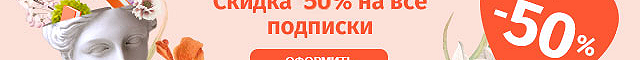
В конечном счете, несомненно здесь лишь то, что это кульминационное аминь свидетельствует о языковой власти самой Цветаевой и автономности ее поэтической воли, знаменуемой тем, что это слово составляет дополнительную, пятую строку финальной строфы стихотворения, которая, в соответствии с уже установившейся схемой (чередование катренов и терцетов), должна состоять из четырех строк[82]. Этим финальным двусмысленным поворотом значения Цветаевой удается утвердить истинность сразу обоих значений слова призрак. Она признает, что сфера поэзии есть всего лишь сон, одновременно утверждая нереальность поэзии и ее невозможность в качестве ее собственной, реальной судьбы. Так Цветаева глубже осознает, чтó стоит на кону в ее поиске поэтического призвания. Если для Блока возможно трансцендирование тела духом, подобно тому, как это происходит во сне, то в ее случае такой порыв ведет не к трансценденции, а к неизбежному кошмару, к смерти. Его поэтическая сила, его поэтический сон, его поэтический порыв для нее опасны.
Вслед за этим пришедшим к Цветаевой отрезвляющим пониманием третье стихотворение цикла, «Ты проходишь на запад Солнца…», повторяет темы, образы и мотивы первого стихотворения цикла, однако в совершенно иной тональности. Теперь Цветаева уже не сражается ни с собственной судьбой, какой она ее предчувствует, ни с недоступностью Блока. Это стихотворение исполнено спокойной уверенности в собственном будущем поэтическом триумфе, она принимает испытание «нелюбовью» – результат своего «неправильного пола» – как неотъемлемую часть своего поэтического самоопределения. Некоторые исследователи интерпретировали отказ Цветаевой произнести имя Блока и ее восклицание «Ах, нельзя!» как свидетельство того, что в стихотворении «Имя твое…» Цветаева чуть ли не богохульствует[83]. Нежно напевное «Ты проходишь на Запад Солнца …», напротив, на первый взгляд кажется значительно более «смирным»: оно исполнено в форме молитвы и прямо заимствует первые две строки и рефрен – «свете тихий» – из образности и архаичного языка молитвы, читаемой в православном богослужении[84]. Дэвид Слоан, отчасти основываясь на этом сдвиге интонации, находит, что весь блоковский цикл Цветаевой мотивирован траекторией, ведущей ко все большему великодушию и самоотвержению: «Эротическая, собственническая любовь <героини>, наиболее сильная в стихотворении I, постепенно уступает место любви иного рода, сходной с религиозным поклонением и пронизанной духом соборности»[85].
Однако несмотря на эту видимость, трансгрессия Цветаевой в третьем стихотворении к Блоку даже более откровенна, чем в первом. Блок пробуждает в ней подлинный духовный экстаз и она бесстыдно ему поклоняется, подставляя его образ, если не имя, на место Христа в традиционной литургии. Сам отказ Цветаевой произносить в этом стихотворении имя Блока только усиливает ее желание назвать его «святым именем»; она не упоминает имени Блока всуе, ибо он в полном смысле обожествлен: «И по имени не окликну, / И руками не потянусь». На самом деле, кротость Цветаевой здесь притворна, ибо если Блок стал божеством, то это осуществилось ее поэтической волей. Поэтому чистая сила его имени в стихотворении «Ты проходишь на Запад Солнца…» гораздо сильнее, чем эротическое воздействие в стихотворении «Имя твое…», ведь теперь Цветаева уже не ищет, но берет на себя право говорить и действовать его именем в области поэзии (пусть даже в реальной жизни это ее желание оказалось нереализуемым): «И во имя твое святое, / Поцелую вечерний снег». Это ведь совсем не похоже на «религиозное поклонение» – пожалуй, более точным будет определение «негромкое богохульство»[86].
В отличие от Христа, Блока на мученическую смерть обрекают не силы зла, а его собственное внутреннее лирическое стремление, и принимает он ее ради исполнения своей уникальной поэтической судьбы, а не для спасения людей. Как Цветаева напишет позже, в эссе 1933 года «Поэты с историей и поэты без истории»: «Если Блок нам видится как поэт с историей, то эта история – только его, Блока, лирического поэта, история, только лирика – страдания» (5: 409). Трансцендентность Блока видится Цветаевой альтернативой традиционной христианской вере: ее вера, ее выбор – она будет молиться поэту[87]. Однако эта трансгрессивная религия есть в то же время новое утверждение ее веры в то, что поэзия открывает возможность единственной истинной близости – близости душ, свободных от пола, близости между человеком и человеком без посредничества всякой узаконенной божественности. Ее стремление к такого рода близости с большей ясностью выражено в стихотворении, написанном всего через несколько месяцев после «Стихов к Блоку» 1916 года: «К двери светлой и певучей / Через ладанную тучу / Тороплюсь, // Как торопится от века / Мимо Бога – к человеку / Человек» (1: 317). Здесь та же яркая поющая дверь, что была в стихотворении «Нежный призрак…», за которой находится нечто противоположное повседневной, полной запретов реальности – вселенная поэзии, зовется она смертью или как-то иначе. В конечном счете, в «Стихах к Блоку» Цветаева приходит к пониманию, что реализация обещанной встречи не важна: важно – вечно желать, стремиться, спешить к иному миру.
Поэтому в стихотворении «Ты проходишь…» Блок уже совершенно не ощущается как враг, нет упоминания и о том страдании, которое причиняет любовь к нему лирической героине Цветаевой; единственный намек на личную боль заглушается генерализующей отсылкой подтекста: «В руку, бледную от лобзаний, / Не вобью своего гвоздя»[88]. В этом стихотворении Цветаева принимает и свое поэтическое призвание (о котором свидетельствует ее нереализуемая любовь к Блоку), и гендерное различие с Блоком (следствием чего является громадная дистанция между ними). Она оставляет свои сомнения, свои желания и свой бунт; она признает, что Блок не отвечает на ее страсть, и – что так часто случается с нею в подобных ситуациях – впадает в своего рода столбняк[89]:
Мимо окон моих – бесстрастный —
Ты пройдешь в снеговой тиши…
Отсюда базовый контраст, организующий стихотворение: замершая, ошеломленная поза лирической героини (с той стороны окна, сквозь которое она уже не пытается пройти) versus Блок, пребывающий в движении, в процессе преображения. Заметание снегом его следов служит символом его постепенного развоплощения: «Ты проходишь на Запад Солнца, / И метель заметает след». А обладательница лирического голоса, напротив, не только оставляет свои следы на снегу, но и погружается всем телом в этот снег: «И, под медленным снегом стоя, / Опущусь на колени в снег». Блок перешел через страшный порог предыдущего стихотворения невредимым и очистившимся, тогда как Цветаева, не в силах сдвинуться с места, телесно остается позади, хотя душой следует за каждым его движением. В этом стихотворении нет внешнего стремления ни ко всему тому, что воплощает для нее Блок (как в «Имя твое …»), ни прочь от него (как в «Нежный призрак…»); это безмятежная интерлюдия в созерцании Цветаевой своего возлюбленного, где ноша отказа сама по себе сладка и прекрасна, хотя и приправлена горечью.
Автограф стихотворения из цикла «Стихи к Блоку»
Однако тихая досада Цветаевой проявляется в средних двух строфах стихотворения, где она прямо говорит о своем отречении и дает обет бескорыстного поклонения Блоку:
Я на душу твою – не зарюсь!
Нерушима твоя стезя.
Эти строки подернуты горечью, проявленной не только интонационно, но и в неожиданном переходе к метафорическому, духовному вожделению, которое даже в отрицании («не зарюсь») претендует на обладание ничуть не менее решительно, чем физическое вожделение в «Имя твое…». Цветаева признается в том, что желает Блока, «зарится» на него – и это признание напоминает о том, что на протяжении всего цикла отношение к Блоку служит ей аллегорией процесса собственного вдохновения, собственного поэтического становления. В таком случае, «душа» не менее, чем «тело», служит метафорой неотразимой магнетической силы, гальванизирующей порыв поэтического вдохновения. Сам глагол, которым Цветаева передает свое духовное вожделение – зариться – при этом напоминает о двойственном слове заря (утренняя/вечерняя), с которым у него общая этимология (оба слова связаны с заревом[90]). Хотя это слово прямо в стихотворении «Ты проходишь…» не появляется, его семантика присутствует в пронизывающей стихотворение вечерней образности: Запад Солнца, вечерний свет, вечерний снег; более того, молитва, которой цитируется в этом стихотворении, входит в православную вечерню. Переход между днем и ночью, обозначенный словом заря, – это та самая грань горизонта «на Запад Солнца», которую пересекает Блок в этом стихотворении и которая таким образом знаменует момент достижения им поэтической трансценденции.
Обозначение поэтического пути Блока как стези расширяет эту космическую метафору, поскольку слово стезя, помимо своего библейского отзвука[91], в словаре Цветаевой описывает огненный хвост падающей звезды или кометы. В стихотворении 1923 года из цикла «Поэты» (2: 184–186) Цветаева использует этот образ для описания кометоподобной траектории жизни поэта, послушного силе притяжения таинственных небесных сил, которых не ощущают приземленные смертные: «Планетами, приметами, окольных / Притч рытвинами… Между да и нет / Он даже размахнувшись с колокольни / Крюк выморочит… Ибо путь комет – // Поэтов путь. <…> / Твоя стезя, гривастая кривая, / Не предугадана календарем!». Уподобляя стезю Блока орбите кометы, Цветаева утверждает его оторванность от земли и земных обитателей, да и от всей нашей солнечной системы.
Впрочем, обещание Цветаевой не тревожить космическую орбиту Блока лишь кажется кротким самоотречением – на самом деле самим этим заявлением Цветаева утверждает свое небесное родство с Блоком. Она – другая одинокая планета, космическая сила, способная, если захочет, своим притяжением повлиять на его орбиту и привлечь его к себе. В стихотворении можно даже обнаружить намек на имя этой силы, хотя оно, как и имя Блока, остается скрытым: звезда. В раннем стихотворении «Только девочка» звезда служит эмблемой той поэтической судьбы, к которой стремится Цветаева. В «Ты проходишь…» слово звезда непосредственно не встречается, однако присутствует в повторении буквы з в рифмах третьей строфы (зарюсь / стезя / лобзаний / гвоздя) и особо отзывается в рифменной паре стезя / гвоздя. В результате, хотя контраст между неподвижностью и кротостью лирической героини и взлетом и величием Блока как будто говорит о том, что Цветаева забыта, брошена в дольнем мире своим неотмирным поэтическим божеством, глухим к ее молитвам, – намеренные умолчания стихотворения намекают на то, что это положение временное.
Итак, отказ Цветаевой произнести вслух имя Блока в стихотворении «Ты проходишь…» становится шифром тайного знания, закодированного в двух других непроизнесенных словах этого стихотворения: звезда знаменует ее собственный будущий поэтический взлет, тогда как согласие не зариться содержит в себе решимость не освещать до времени свой поэтический горизонт (зарю). Скрывая звезду и зарю в контексте своего явного восхваления Блока, Цветаева таким образом забирает эти слова у него и оставляет себе. По той же логике утаивание имени Блока в этом стихотворении возбуждает подозрение, что она уже достигла полной над ним власти – и совершенно уверена в том, что со временем их поэтический статус сравняется. Далее в цикле тот же космический символизм и языковая игра используются уже для безоговорочного заявления:
Но моя река – да с твоей рекой,
Но моя рука – да с твоей рукой
Не сойдутся, Радость моя, доколь
Не догонит заря – зари.
Пусть Блок – это заря вечерняя, но Цветаева – заря утренняя. Если он – звезда падающая, она – восходящая. Возможно, ей не суждено его догнать, однако она будет всегда следовать за ним в вечность. Таков путь, который уже проделала мысль Цветаевой в этом цикле, начав с безумного, неутолимого, невозможного вожделения первого стихотворения.
Имплицитное равенство раздельных путей Цветаевой и Блока, разминувшихся в истории, но ставших спутниками в пространстве поэзии, дополняющих друг друга, но никогда не пересекающихся, – идея, которую она на разные лады обдумывает во многих своих произведениях. Эта возможность великой страсти – гипотетическая встреча двух путей – которая остается нереализованной, помогает, в частности, понять, почему в эссе «Мой Пушкин» и в других произведениях Цветаева дает столь явно противоречащее очевидному определение истинной любви как «нелюбви»: любовь сильнее всего там, где больше пространство для воображения (то есть когда расстояние между любящими максимально). Эта роковая эвклидова геометрия любви определяет и восклицание Андрея Белого в ее эссе «Пленный дух» в ответ на рассказанную ему Цветаевой историю о страстно влюбленной в него много лет назад молодой девушке: «Потому что, если она была – то это была моя судьба. Моя не-судьба. Потому у меня и не было судьбы. И я только теперь знаю, отчего я погиб. До чего я погиб!» (4: 226).
В двух стихотворениях, написанных почти подряд в августе 1919 года, Цветаева продолжает, уже после «Стихов к Блоку», начатую в них траекторию, исследуя мысль о роковом притяжении между параллельными жизнями (линиями), которым никогда не суждено встретиться. В стихотворении «Тебе – через сто лет» (1: 481–482) Цветаева обращается к своему идеальному читателю и возлюбленному – мужчине, который будет жить (о чем говорит заглавие стихотворения) через сто лет после ее смерти, когда память о ней уже сотрется на земле[92]. Ему суждено появиться только в будущем – и поэтому ей сейчас недоступна полнота бытия, а его будущее существование будет также уязвлено недоступностью ее прошлого бытия: «Небытие – условность. Ты мне сейчас – страстнейший из гостей, / И ты откажешь перлу всех любовниц / Во имя той – костей». Здесь видно, что для Цветаевой неосуществимая романтическая страсть и поэтическая близость, сексуальная фрустрация и творческое вдохновение, – это одно и то же; и подобное отождествление, как мы видели, определяет и «Стихи к Блоку». Более того, в стихотворении «Тебе – чрез сто лет» имя самой Цветаевой становится хранилищем абсолютной поэтической силы, наравне с именами Пушкина и Блока, ибо ее будущий возлюбленный ради ее имени откажется от собственного счастья («Во имя той – костей»).
Второе стихотворение Цветаевой на тему о безнадежном притяжении, «Два дерева хотят друг к другу…» (1: 483–484), выявляет ту роль, которую в ее непреклонной поэтической геометрии играет мотив пола. В этом стихотворении два дерева – это векторные существа, своей физической формой выражающие идеал устремленности ввысь, которая у Цветаевой служит существенной функцией поэзии и поэтического сознания. Их «стези» – то есть стволы – представляют собой одновременно синхроническую (высота стволов) и диахроническую (концентрические круги стволов) иллюстрацию всей судьбы деревьев, сгустившейся, так сказать, во времени. Путям двух деревьев никогда не пересечься (то есть их стволы никогда не соприкоснутся); однако одно дерево растет под углом, вечно склоняясь к другому, как чувственно наглядная иллюстрация неутолимой страсти. Хотя слово дерево в русском языке среднего рода, меньшее, склоненное дерево в этой «древесной» схеме поэтического диалога явно играет женскую роль:
То, что поменьше, тянет руки,
Как женщина: из жил последних
Вытянулось, – смотреть жестоко,
Как тянется – к тому, другому.
Цветаева говорит здесь о том, что женская сущность – состояние неискоренимое (дерево растет под наклоном и не может изменить направление своего роста, не может вырвать из земли свои корни), но исключительно внешнее – категория скорее относительная, чем фундаментальная. Женское для Цветаевой синонимично неосуществимому желанию.
Это понимание «женскости» ни в коей мере не привязано к биологии; можно сказать, что Андрей Белый в «Пленном духе» ничуть не менее женственен, чем Цветаева. «Вектору» «женскости» в своем понимании Цветаева противопоставляет биологически женскую природу, вообще лишенную векторного устремления. Это противопоставление лежит в основании короткого четвертого поэтического текста «Стихов к Блоку» – последнего стихотворения этого цикла, о котором мне хотелось бы поговорить:
Зверю – берлога,
Страннику – дорога,
Мертвому – дроги.
Каждому – свое.
Женщине – лукавить,
Царю – править.
Мне – славить
Имя твое.
Существительные, которыми оканчиваются первые три строки стихотворения (берлога, дорога, дроги
О проекте
О подписке

