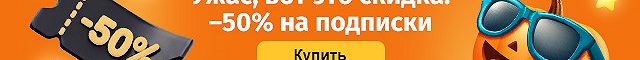
Часть первая
Война, называемая кампанией 1814 года во Франции. Переход через «рубикон», которым стал Рейн
В отечественной исторической литературе принято считать и называть последовавшие за Отечественной войной 1812 года походы русской армии в Европу Заграничными походами 1813, 1814 и 1815 годов. Те события можно назвать и Большой европейской войной против наполеоновской имперской Франции. Ряд историков называют трехмесячные военные действия союзных армий на французской территории, приведшие к краху Наполеона и созданной им империи, Войной 1814 года.
К числу таких исследователей относится известный военный теоретик и историк старой России генерал от инфантерии Генрих Антонович Леер, начальник Николаевской академии Генерального штаба, главный редактор «Энциклопедии военных и морских наук» и «Обзора войн России от Петра Великого и до наших дней». В последнем фундаментальном исследовании он называет те события на территории собственно Франции Войной 1814 года.
Описывая Войну 1814 года, Г.А. Леер, тогда еще генерал-лейтенант и профессор Академии Генштаба, ее предтечей назвал двухмесячную остановку наступавших союзников на берегах Рейна и происходившие там в их стане военно-политические события. Леер пишет:
«Война 1814 г., подобно войне 1813 г., составляет естественное продолжение последней, с двухмесячным перерывом ее на берегах Рейна. Остановка союзных армий в их победоносном шествии после Лейпцигской победы, – когда они располагали почти тройными силами сравнительно с Наполеоном и когда продолжение военных действий могло бы окончить борьбу, – дала возможность Наполеону обратиться к новым вооружениям и продлить войну еще на 3 месяца; короче – она была ближайшею причиной войны 1814 г.
Остановка эта вызвана как утомлением и расстройством союзных войск, так и опасением народного восстания при вторжении во Францию, особенно же – колебанием: продолжать ли войну, или заключить мир с Наполеоном на условиях уничтожения континентальной системы и Рейнского союза, отторжения Голландии и Италии, с представлением Франции ее естественных границ: Рейна, Альп и Пиренеев.
Поборницами мира являлись: прежде всего – Австрия (император Франц и министр Меттерних имели целью не низложение Наполеона, а только ослабление его могущества), а затем – Англия.
Император Александр, Блюхер и Гнейзенау были представителями обратного мнения. Они настоятельно требовали продолжения войны до низвержения Наполеона и полного освобождения Европы.
Несмотря на крайне выгодные условия (для того положения, в каком находился Наполеон), на которых Наполеону предлагался мир и созвание конгресса, он медлил ответом, вооружался, и когда изъявил согласие на созвание конгресса в Мангейме (уполномоченным на который был Коленкур), то оказалось уже поздно, и партия продолжения войны взяла решительный верх.
Требования же к Наполеону Бонапарту союзные монархи пожелали выдвинуть (но того не сделали) следующие:
– возвратить все завоевания, сделанные Францией, начиная с 1792 года;
– признать независимость государств Германии, а также Швейцарии, Италии и Голландии. В последнем случае земельные владения Оранского дома несколько увеличивались;
– возвратить Испанию ее прежнему королю Фердинанду VII;
– сдачи в определенные сроки крепостей в землях, завоеванных французами: Майнца (через восемь дней после подписания мира), Люксембурга, Антверпена, Бергонцома, Мантуи, Пескары, Пальма-Ново и Венеции (за десять дней). Сверх того сдачи еще трех крепостей (через четыре дня): Бефора, Безансона и Гюненгена, с тем, чтобы они оставались в руках союзников до совершенного приведения в исполнение всех условий мирного договора;
– и последнее, как само по себе разумеющееся: взамен возвращения Англией завоеванных ею французских колоний Наполеону предстояло отказаться от части своего императорского титула, из которого должны были быть вычеркнуты титулы Короля Италийского, Покровителя Рейнского союза и Посредника Швейцарии».
Такие требования на те дни были вполне реалистичны. После освобождения земель Германии ситуация на театре войны в конце 1813 года сложилась следующая. Союзные армии (бывшая Богемская, ставшая Главной, и Силезская) вышли к пограничному Рейну, на левом берегу которого начиналась собственно историческая территория Франции, ее земли Эльзас и Латорингия, в которых тогда немалая часть населения говорила на немецком языке.
Северная армия, разделившись на отдельные корпуса, по сути дела, овладела почти всей северо-западной Германией (кроме Гамбурга, где маршал империи Луи Николя Даву продержался до самого низложения Наполеона I и даже несколько дольше), а также Голландией и большей частью современной Бельгии.
Автор 4‐томной «Истории русской армии» военный историк-белоэмигрант Антон Антонович Керсновский пишет об успехах союзников при освобождении немецких земель от власти наполеоновской Франции следующее:
«К зиме пали все французские крепости в Германии. Данциг, осажденный осадным корпусом во главе с герцогом Вюртембергским, сдался 10‐го ноября. Гарнизон под начальством генерала Раппа (из бывших первоначально) получил было разрешение вернуться во Францию, но Император Александр настоял на его безусловной сдаче. В крепости взято 1300 орудий.
Аналогичный случай имел место в Дрездене. Корпус Сен-Сира, блокированный с конца августа, выговорил было себе право свободного выхода, но, по настоянию Государя, сложил оружие 6‐го ноября в количестве 34 000 человек при 245 орудиях.
В Торгау находилоь 35 000 человек, из коих по капитуляции (10‐го января 1814 года) сдалось 5000, а 3000 нашли в этой крепости могилу. Сопротивление их принесло лишь вред французской армии отвлечением гарнизонов, и участь их была решена в лейпцигском сражении».
Керсновский тем самым показывает достаточную прочность тылов армий антинаполеоновской коалиции, после сражений у Дрездена и Лейпцига, вышедших на берега Рейна. То есть логика развития войны 1813 года в Германии сводилась к неизбежности вторжения в саму Францию и победоносного похода на ее столицу Париж. Только его безусловное взятие могло привести к крушению наполеоновской империи.
Союзное командование в лице «развоевавшихся» императора Александра I и прусского короля Фридриха-Вильгельма III это осознавало. Но, вероятнее всего, не осознавал (или инстинктивно не хотел понимать) император французов Наполеон I. Мания величия его явно подводила, поскольку он оставался верен себе и верил в свою армию.
События для наполеоновской Франции развивались угрожающе быстро. На военном совете во Франкфурте-на-Майне 19 ноября (1 декабря) союзным командованием (точнее – союзными монархами) было решено приступить к зимнему походу во Францию. Предполагавшийся конгресс в Мангейме отменялся, и французский уполномоченный бригадный генерал маркиз Арман Огюстен Луи де Коленкур, герцог Виченский, после дважды стоявший во главе французского МИДа, был остановлен на передовых постах и дальше проезд ему закрыли.
Коленкур, находясь в постоянном напряжении, прождал на аванпостах пропуска в штаб-квартиру союзников три недели, но так и не получил его. И, в конце концов, полномочный посланник императора французов в ранге сенатора и гоф-маршала двора получил, как говорится, «от ворот поворот». И извинений он никаких в той ситуации не получил.
Возврашение дипломата в императорскую штаб-квартиру с таким «ответом» стало неприятным сюрпризом для ее хозяина. Бонапарт понял, что в завязывающихся событиях с ним могут и не посчитаться. Но такого «вида» после возвращения маркиза Коленкура уязвленный монарх Франции среди своих маршалов и приближенных не показал.
Начало похода во Францию, то есть переход ее исторической государственной границы, было после долгих прений единодушно одобрено и назначено союзным командованием на 20 декабря (1 января 1814 года). Эта страница в истории антинаполеоновских войн («переход через Рубикон» в начале XIX столетия) нашла самое оживленное обсуждение в трудах отечественных и зарубежных исследователей.
Адмирал М.Н. Лермонтов в своих малоизвестных широкому кругу читателей «Записках» рассказывает о том, как два монарха-соперника в лице императоров Наполеона I и Александра I с разницей по времени в два года готовили вторжения своих армий на неприятельскую территорию:
«На французских и на русских войсках явно отразились в 1812 и 1814 годах мысли и намерения Наполеона и Александра I, и это отражение есть главнейшая основа Истории всякого общества, войска и мирных поселян.
Приказ Наполеона войскам в 1812 году внес в Россию огонь, меч, разорение и даже осквернение Храмов Божиих. Приказ Александра I Российским войскам в Фрейбурге 25 декабря 1813 года, благодетельно отразясь в войсках его, привлек всю Францию.
Редкий пример в военной истории, и тем более драгоценный, что победители и побежденные устремились к одной, им общей цели, проявилось общее сознание жителей, что блеск военной славы, отуманивший Наполеона и Францию, не вознаграждал упадок земледелия, торговли и промышленности, что на всех сословиях тяготели гибельные следствия частых рекрутских наборов и тяжких налогов на осиротевшие семейства.
Это сознание побудило все сословия жителей последовать высочайшему повелению императора Александра…»
Официальный историк Отечественной войны 1812 года А.И. Михайловский-Данилевский в своих работах обращал внимание на одну немаловажную деталь развитя событий в начинающейся Войне 1814 года. Военные действия и дипломатические переговоры на новом уровне открылись почти одновременно. И в продолжение последующих всех трех месяцев велись между собою в неразрывной связи.
Императора Александра I можно понять: прошло всего лишь менее полутора лет, как собранная Бонапартом с пол-Европы Великая армия, подобной которой европейское сообщество в своей многовековой истории еще не знало, вторглась в Россию и превратила ее первопрестольную столицу древнюю Москву в пожарище. Российский государь понимал, что пока существует наполеоновская Франция с ее амбициозным монархом – миру на континенте не бывать, а все ведущие военные дороги из законодателя мод Парижа в его эпоху ведут на восток.
Вполне понятна непримиримая позиция и прусских военачальников – генерал-фельдмаршала Гебхарда Леберехта Блюхера и будущего генерал-фельдмаршала Августа-Вильгельма Антона фон Гнейзенау. Они, выходцы из древних дворянских родов, были свидетелями исторического унижения Наполеоном Прусского королевства, желавшего стать главой «дома» немецких государств Европы. Такое действительно произойдет в том же столетии, но гораздо позднее.
В ходе недавней проигранной Русско-прусско-французской войны 1806–1807 годов, в которой участвовали и Блюхер, и Гнейзенау, королевство со столицей в Берлине едва не потеряло свою государственность, которая утверждалась силой оружия. Та война начиналась после создания 4‐й антифранцузской коалиции в составе Великобритании, Пруссии, России и Швеции. После этого прусский король Фридрих-Вильгельм III самонадеянно предъявил 1 октября 1806 года ультиматум Наполеону I Бонапарту, требуя в течение недели вывести французские войска за реку Рейн.
Император французов Наполеон I вызов принял, и, не дожидаясь истечения срока ультиматума, отдал войскам приказ перейти границу Пруссии. Его армия, обладавшая высоким боевым духом, в один день в двух сражениях – под Йеной и Ауэрштедтом (14 октября) разбила королевскую армию и 27 октября 1806 года победительницей вступила в столицу Пруссии город Берлин. Королю Фридриху-Вильгельму III со своей разбитой армией пришлось бежать в Восточную Пруссию. Французская армия, одушевленная двумя большими викториями, последовала за ней. То есть война приближалась к границам России.
Тогда на помощь Фридриху-Вильгельму III пришел союзный ему российский император Александр I. Он прислал 160‐тысячную армию, командование которой в конечном итоге доверил бездарному выходцу из германского Ганновера генералу от кавалерии Л.Л. Беннигсену, в будущем ненавистника «освободителя России» полководца М.И. Голенищева-Кутузова. В двух ожесточенных сражениях – при Пултуске (14 декабря) и двухдневном при Прейсиш-Эйлау (26 и 27 января 1807 года) ни одна из сторон не смогла добиться решающего успеха, который мог бы стать финалом войны. Хотя император Наполеон Бонапарт и счел эти два сражения на земле Восточной Пруссии викториями в своей звездной полководческой биографии.
Однако в сражении, которое и стало решающим, под Фридландом 2 июня 1807 года, русская армия потерпела поражение и отступила за пограничную реку Неман, на ее правый берег. Наполеоновская армия у города Тильзита вышла на левый берег Немана.
Было подписано перемирие: со стороны России его подписал князь Лобанов-Ростовский, с французской стороны – маршал Луи Александр Бертье. 13 июня на плоту посреди Немана состоялась личная встреча двух императоров. Александру I удалось убедить Наполеона I сохранить Прусское королевство как суверенное государство.
Исторический факт: спасла территориально урезанную почти вдвое Пруссию (40 поцентов, то есть земель по левому берегу Эльбы) тогда только твердость России и ее самодержца из династии Романовых при подписании Тильзитского мира с Наполеоном I. Договор был подписан 9 июля 1807 года, после чего два венценосца обменялись высшими наградами своих государств: Наполеон получил орден Святого апостола Андрея Первозванного, а император Александр I – орден Почетного легиона.
В тот же день в городе Тильзите был подписан франко-прусский мирный договор. По нему Прусское королевство, помимо территориальных уступок, обязывалась заметно сократить свою немалую армию до 40 тысяч человек (это прямо касалось биографий генералов Блюхера и Гнейзенау) и уплатить Франции огромную контрибуцию в размере 100 млн франков. Но король Фридрих-Вильгельм III сохранял свой родовой престол.
Императору Александру I не удалось тогда воспрпятствовать императору Наполеону I в создании у границ Пруссии французского плацдарма в виде возрожденного Польского государства. Он добился лишь того, чтобы оно именовалось не Польшей, а герцогством Варшавским.
Тильзитский мирный договор, просуществовав пять лет, утратил свою законную силу в первый день вторжения Великой армии в пределы России. То есть в первый же день наполеоновского Русского похода 1812 года. В силу этого нарушителем его являлась французская сторона.
Противниками императора Александра I, фон Блюхера и фон Гнейзенау на совещании во Франкфурте-на-Майне, причем – ожидаемыми, стали австрийцы в лице императора Священной Римской империи Франца I и его опытного полномочного дипломата Клеменца-Венцеля-Лотара фон Миттерниха. Как показал 1814 год (и не только он), их интересами являлись не союзные, а интересы имперской Вены.
Император Франц I ялялся тестем «безродного» монарха Наполеона Бонапарта: его дочь эрцгерцогиня Мария-Луиза являлась коронованной императрицей Франции, матерью наследника ее императорского престола. В случае чего она могла стать законной полноправной регеншей для маленького сына, до дня его совершеннолетия.
Как глава правительства, князь Меттерних-Виннебург долгие годы оставался верным исполнителем дипломатических миссий, исполнителем воли императорского дома Габсбургов. Надо заметить, что на дипломатическом поприще в семье европейских монархий удачливый Меттерних добился многого. Не случайно же в 1820 году он заявил:
«Слово, произнесенное Австрией, в Германии становится непреложным законом…»
О проекте
О подписке
Другие проекты