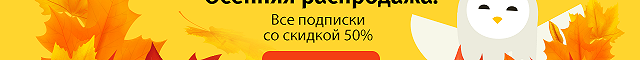
Неделю мне пришлось ходить в гражданской форме, пока наконец не нашли мой размер кителя. С этого дня можно вести летопись. Вечером ко мне в номер подселили двух восточных лейтенантов. Они были толсты, вредны и напоминали скорее чайханщиков, переодетых красноармейцами, чем офицеров. С ними я не ужился и двух дней.
В тот же день я попытался построить солдат, и они разбежались. Как я потом узнал, всё это происходило не без наущения прапорщика Силявкина. Светило жаркое солнце. Строй распадался. Кое-кто хохотал. Метались какие-то перекошенные рожи. Солдаты испытывали преждануременное удовлетворение. Улюлюкнули. Меня пытались опустить. Страшно обозлённый неудачей я оставил построение и пошёл по направлению к штабу. За мной увязался военный строитель. У него был вид недоношенного младенца, находящегося на выхаживании в колбе: огромная голова, фиолетовые жилы на всех висках, плывущий взгляд идиота. Одет он был не щёгольски – в какие-то обноски с чужого… Он что-то непрерывно кричал мне вслед гортанным марсианским голосом, и хватался за уши. Ноги он не переставлял, а волочил, и сзади него клубилось белое облако пыли. Это было похоже на картину из какого-то древнего фильма про Тома Сойера. Потом к нему присоединился ещё один восточный человек, похожий на чайханщика в фильмах про Ходжу Насреддина. Они стали кричать вдвоём. Я обернулся. Дождался их и спросил, что же они там кричат, что значит слово «анански». Я действительно был слабо осведомлён и не ведал, что есть ругательства на других языках. Мне почему-то казалось, что люди из других стран не так продвинуты по пути цивилизации, чтобы иметь изощрённые ругательства в своём арсенале. Сытому народу, в общем-то, незачем ругаться трёхэтажным матом, для этого нет мотивации.
Чайханщик, заливаясь ласковой солнечной улыбочкой, и видимо, испытывая дикое удовольствие от всего происходящего, стал объяснять мне, что «анански» по восточному значит «Хороший», «добрый». А сам всё время прыскал, гнида. Он мне вешал лапшу на уши. Видя его смешки, я потихоньку начал понимать, что тут что-то не так, но до конца разобраться в происходящем не мог. Сначала я подумал, что они оба сумасшедшие – первый был точно не того. Вечером в общежитии я за чисткой зубов в засранном умывальнике выяснил у такого же двухгодичника, как я, что значит слово «ананский». Я был удивлён. Двухгодичник увольнялся в запас, и был весел и словоохотлив. Он не только расширил мой словарный запас, но и повлёк меня в лес по партизанским тропам. Он караулил какие-то сторожки, уже покрытые мглой, барабанил ногами в двери, шушукался через слуховые окна. Через час такой деятельности в его кошёлке находилось три бутылки водки и кусок сала, завёрнутого в нечто напоминающее рубероид. Он посоветовал мне быть здесь крайне осторожным, и иметь на спине третий глаз. Что мне делать с наглыми насмешниками, не сказал, посетовав на устав.
С утра следующего дня стала повторяться та же история. К этим двоим насмешникам скоро присоединилось ещё двое. Они увязались за мной сразу же, но держались поодаль. Я их сразу же простил, потому что они знали положенную дистанцию, ругались на своём языке неразборчиво, стыдливо отводя глаза. А эти двое обнаглели и потешались вовсю ивановскую. Когда я входил в роту, они кричали, как птицы – во весь голос. Я обернулся с ласковой и доброй улыбкой позвал их. Они радостно подошли, переваливаясь, как пингвины.
– Идёмьте ко мне, ребята! – это было сказано с вкрадчивым придыханием. – Ну, здравствуйте!
Ничего ещё не подозревая, недоношенный идиот в солдатских обносках и такой же Ходжа Насреддин проследовали за мной в канцелярию.
Итак, я вошёл в канцелярию и затворил дверь. Они находились за спиной и продолжали насмехаться. Я ещё раз спросил, что значит по их мнению «ананский лэйтнант»? И получил ответ. Опять «хороший», опять «добрый», опять «честный». Сумасшедшего недоноска я про себя простил, ибо он был явно неконтролируем. Жалко его было, недоумка. А второй косный и нелюбопытный, прощения не заслуживал. Если бы к тому же дело происходило в европейской стране, то за все оскорбления, какие этот критин обрушил на мою спину, я бы стал богачом, взыскивая с него моральный ущерб. Но я жил в Сан Репе, а не в европейской стране, а посему приёмы здесь требовались совершенно другие.
Я продолжал стоять к ним спиной, а они шёпотом обзывали меня в моей канцелярии на все лады. Внезапно со мной что-то случилось. Страшная сила развернула мой корпус, и с разворота я ударил восточного чайханщика в глаз кулаком. Удар был такой силы, что я услышал хруст и почувствовал сразу же дикую боль в кулаке. Я сломал два пальца о рожу этого идиота. Идиот лежал на дощатом полу и не шевелился. Половина его личика была чёрной.
«Ну, всё, убил козла!» – сказал у меня в мозгу кто-то некто столь же испуганный, сколь же весёлый. Помилованный Недоносок от неожиданности тоже сел на две точки и хлопал глазами. Жилы на его лбу пульсировали. Ничего не говоря, я вышел в кубрик, снял пожарное ведро – эдакий красный конус, пошёл в сортир, наполнил его водой, и возвратясь в канцелярию, окатил полумёртвого насмехалу с ног до головы. Он пытался приподняться. Лицо его с правой стороны было абсолютно чёрным. Я с удовлетворением заметил, что он не смеётся больше.
Потом я уже не помню что было, помню свой ужасающий крик: «Все вон, суки! Будем с вами каждый день заниматься уставом и разбором матерных ругательств на национальных языках! Все – вон! Я вас научу, как понимать славянские языки, суки!» Рёв был такой, что у казармы чуть не снесло крышу.
Именно в этот день я познакомился с Капитаном. Он был татарин. Это был худой человек среднего роста с правильным и резким лицом. Лицо его прочерчивали глубокие складки, традиционно считающиеся свидетельствами тяжёлой жизни. Это лицо напоминало лица некоторых императоров-солдат Рима времён упадка. Меня поражал европейский тип его лица. Он был командиром второй роты, и я часто стал заглядывать в канцелярию к боевому командиру. Капитан уже отслужил двадцать лет, и если бы не прискорбное пристрастие к спиртному, он бы точно стал генералом. Первое время он служил в Жаркой степи, потом у моря, после чего его перебросили в Нусековское болото, где мы, собственно говоря, и столкнулись. Мне было надо отбарабанить два года. А он, недавно получив квартиру в Городке, всего лишь хотел дотянуть последние пять лет службы. От него шёл дух настоящего военного. Когда он заходил в казарму, дневальный гаркал так, что приподнималась крыша. Он проходил по роте мелкими шажками, нервически засунув руки в карманы галифе. О нём ходили разные конгениальные слухи, в том числе история, которую я сейчас расскажу. Общеизвестно, что контингент, прибывающий в строительные части, санрепский язык знает довольно туго, или не знает вообще. Часть его действительно не знает, но часть солдат, зная его, понимает, какие преимущества несёт незнание языка и сразу же по прибытии в часть его прочно забывает. Прекрасно понимая теневые стороны солдатской психики, Капитан был прекрасным преподавателем и чудесным педагогом. Однажды у него появился солдат. Он не понимал команд, хлопал глазами, и чем больше проходило времени, тем хуже он воспринимал окружающее. Пронаблюдав за ним и поставив диагноз заболевания, Капитан вызвал его в канцелярию и спросил, не улучшилось ли его знание санрепского. Тот ответил: «Не понималь!» После этого Капитан стал избивать его ногами. Тот дико кричал: «Товарисч лейтнан! Я не понималь! Не понималь я!» Каждые три минуты капитан спрашивал его, не лучше ли он знает Санрепский язык? Спустя десять минут после начала избиения солдат вдруг в совершенстве освоил великий язык санреп. «Я зналь, всё зналь! – плакал он, – всё зналь, товарысчь капита!» После этого он действительно перешёл на довольно приличный новореп, и отвечал на все вопросы без запинки. Я думаю, что будь у Капитана дальнейшее намерение продолжить обучение, выяснилось бы, что солдат знает ещё и несколько иностранных языков, включая мёртвый иврит и древнюю латынь. Это был удивительный пример быстрого и эффективного обучения с очень малыми затратами, рядом с которым методы Иллоны Давыдовой выглядят смехотворными, замшелыми анахронизмами. Он учил меня, великая душа: «Если будешь бить солдата, бей до тех пор, пока он не попросит прощения! Иначе – нельзя! И следов не должно быть никогда!» Пил он часто и много. Для солдат пьяный он был ужасен. Часто, напившись, спрашивал: «Скажи мне, Лихтенвальд, за что ты как меня уважаешь? Я ведь пустой и никчёмный человек! Не пойму!» У меня не было ответа на столь простой вопрос, точно также, как не было ответов на другие вопросы. Армейский мир был зазеркальем, где смешно было задавать какие-либо вопросы, и ещё смешнее искать какие-либо ответы. Он мне казался серьёзным человеком.
На утро военные строители построились без единой ухмылки. Пострадавшего не было, ибо он пребывал в санчасти, где по его словам лечился от внезапного поноса. Первое минутное импровизированное занятие по уставу, проведённое в ротной канцелярии, оказалось более действенным, чем многие часы бесплодных разговоров про родину и устав. Ухмылка бродила теперь по моему лицу. Я почувствовал вкус крови.
Служба началась.
Первое дежурство по части вполне могло бы окончиться плачевно для меня, если бы не голос божественного здравого смысла. Как только я заступил в наряд, из Службы начальника работ прибежал всклокоченный полковник и попросил командира части дать ему «подмогу» для разгона беспорядков. И командир части дал меня и моих солдат. Мы двинулись вслед за полковником. Пройдя узкую полосу леса, мы вышли на довольно большую поляну, в центре которой был разрыт чудовищный котлован. С одной стороны котлована металось человек шестьдесят калахов, на другой – приблизительно сотня уздеков. Все они кидали друг в друга гигантские камни и часто попадали. Поле было усеяно пострадавшими, которые взывали и истекали.
– Ну, иди! – толкнул меня в сторону бойни при котловане бравый полковник, уверенный, что я хорошо знаю субординацию.
– Куда, товсчь полковник? – спросил я.
– Туда! – указал полковник.
– Куда туда? – спросил я. – Товсчь полковник, а вы сами не хотите пойти туда! Вы уже старый, вам терять нечего! Покажите мне пример! Всё вы здесь энтузиастов ищете! Вперёд!
После этого я обратил взор на поле битвы, раскрыл пасть и стал орать, что есть мочи о том, что уже сюда едут вооружённые краснопогонники, и кто не сдастся, тому будет совсем плохо. Через пять минут толпа разъярённых бойцов разбежалась, мой боец побежал в штаб вызывать медслужбу для поверженных гладиаторов, а полковник и я принялись рассматривать поле сражения. Четверо нуждались в срочной и серьёзной медицинском помощи, убитых к счастью, не было.
Полкан разнимать никого, естественно, не стал.
Драки, иногда разраставшиеся до подлинных побоищ, были в городке самым обычным, рядовым делом. Ни одного дня не было без сломанного носа, выбитых челюстей, переломанных рук и ног. Недавно был случай, когда сорок ахмян напали на сто спящих уздеков, били их арматурой, а потом подожгли казарму. Меня потешала процедура опознания, проводившаяся в комендатуре: с одной стороны стояли поникшие уздеки с забинтованными головами, а с другой – куча гордых ахмян. Дело происходило в кромешной темноте, поэтому никого не опознали.
Через полгода, я, мальчик из интеллигентной семьи уже орудовал кулаками, как заправский боксёр, участвовал в драках с прапорщиками, лупил солдат руками и ногами, никого не щадил, то есть службу узнавал довольно хорошо. Меня стали побаиваться, а солдаты (Что особенно меня радовало) называли психом. Подпольное звание «Псих» приравнивалось к званию майора.
Под Новый Год я имел две совершенно восхитительные драки и вышел победителем над двумя самцами более высокой весовой категории. Третий случай собственно не был дракой. Когда я был дежурный по части, находился при исполнении, и уже провёл отбой, в часть ворвался невесть откуда взявшийся подполковник, пьяный в дым. Он, видимо заблудился, был зол и теперь искал, чем себя занять. Увидев меня, он затрусил ко мне и стал ко мне приставать. Еле на ногах стоит, гнида, а уставу учит – такое только у нас возможно: «Как стоишь? Да как стоишь?». Я сначала по-человечески просил его исчезнуть навеки, на что он не отреагировал, а потом я осмотрелся, вижу – никого кругом нет и без свидетелей вмазал ему что было силы в левое ухо. Резким профилактическим хуком. Он упал плашмя в палисадник через деревянные перильца и на карачках бросился сразу же за своей фуражкой. Я не стал ему мешать и ретировался. Я, честно говоря, ждал весь вечер последствий, но полковник, видно, грамотный оказался. Пьяному нельзя жаловаться на обидевшего его. Примитивный социальный дарвинизм доказывал свою вековую правоту. К седьмому месяцу службы я возвёл культ кулака и поклонялся ему всячески. И это было разумно.
Это была непредсказуемая и рискованная жизнь. Жизнь, в которой не было ни отдыха, ни жалости. И однажды я чуть было с ней не расстался. В то время мои отношения с господами солдатами были омерзительны. Им оставалась служить полгода, они никому не подчинялись, а мой фанатизм, направленный на водворение управляемости войсковым соединением им не нравился. Будучи дежурным по части, я ровно в шесть стал поднимать роту. Она не поднималась. Это был бойкот. Я стал пихать их. И вдруг случилось страшное. Мне на спину бросились несколько человек, и я мгновенно оказался на полу. Неудобная тяжёлая шинель мешала мне. Я знал, что если ещё несколько мгновений проведу на полу, я – труп. На меня наваливалось все больше тел, мелькали руки, они лупили меня в лицо. И странное дело, страшный взрыв гнева придал мне какие-то ужасающие силы. Я сбросил с себя ораву, а из всего последующего запомнил только свой страшный победный крик, арматурину в руке, и толпу, метущуюся передо мной между первым и вторым ярусом кроватей. Теперь я гнал их. Валились подушки. Рвались простыни. Падали швабры. Гремели вёдра. Потом выяснилось, что в ходе битвы при Фермопилах, были невинно покалеченные, в частности солдат, некстати вылезший из-под кровати, попал лицом прямо под мой сапог. Нос его покривился. Была ночь. Гнев мой был ужасен. Попреки уставу, в казарме не было даже дневального. Все мои военные строители выбежали из казармы и прятались, кто где. Я поймал себя на мысли, а вот если бы это всё было снято на плёнку, и этот первобытный барак, и туман в казарме, и эта битва, какой чудовищный, но прекрасный фильм получился бы. Потому что этого не смоделировать никакому режиссёру. Это были настоящие гладиаторские бои, не на жизнь, а на смерть.
В этот момент настигла меня и участь дознавателя. Сказать, что я стремился к этому, я не могу. В военных частях часто случались преступления, то кто-нибудь что-нибудь свиснет, то кокнут кого, и на начальных стадиях, предшествовавших открытию уголовного дела, проведением предварительного расследования занимались ротные офицеры. Эта деятельность никак не вознаграждалась, поэтому такого рода задания падали на оселков, готовых волочить армейский горб в любых условиях. Всяких там некадровых охвицеров. Я был таким оселком, если не ослом. Меня назначили дознавателем, и я должен был едва ли не каждый день спешить в Нусекву с двумя пересадками, дабы в Прокуратуре предстать пред светлые очи Капитана Пердушона. Это был молодой вихрастый рыжий тип с поросячьими глазками и бабьим смехом. Он быстренько научил меня делать допросы и правильно заполнять протоколы. Сам он не любил заниматься рутинной работой и брезговал ею, стараясь переложить всё на своих бесплатных помощников. С виду он был похож на дядюшку Римуса, присосавшегося к смоляному чучелку.
Первым делом, в котором я участвовал, было дело старшего лейтенанта Парацетамолова. Этот не в меру свирепый командир роты уважением у своих военных строителей не пользовался, и в роте созрел план покушения на старшего лейтенанта. В те дни часто гасло электрическое освещение, и его рота, находившаяся в другой части, но в том же болоте, что и я, погружалась в абсолютную темноту. План покушения был прост, как правда. Когда Парацетамолов будет подходить к роте, в ней выключится свет и два солдата, стоя на стульях с разных сторон от входа нанесут ему по голове удар перевёрнутой табуреткой. Почти так и случилось. Когда он был на подходе к роте, погас свет, и он уже собирался войти, когда его опередил солдат. В тёмном предбаннике раздался грохот, крик, потом включился свет, и все увидели поверженное тело военного строителя и изрядно перетрухнувшего, но целого командира. Пердушон послал меня допрашивать солдат этой революционной роты. Потом отловили якобы организаторов покушения. и я срочно должен был лететь на родину провинившихся, на восток. В нагрузку мне было дано указание допросить родственников корейца Алексея Агая, бывшего дезертиром три дня.
В аэропорту я был свидетелем страшной сцены. Куча голосивших людей, мужчин и женщин провожала молоденького лётчика. Он был взвинчен и пьян. Он подошёл ко мне, попросил сигарету и сказал:
– Я из Адгана. Был в отпуске и сдуру ума матери рассказал, как нас лупят над ущельями. Из четырёх моих друзей я один остался! А теперь еду туда опять, к смерти! Наверно, не вернусь оттуда! Будь здоров!
– И ты тоже, брат! Будь!
Я попытался его успокоить, утешить, но не смог. Его лицо морщилось, и было всё – в мелких трещинах и морщинах. А ведь это был совсем молоденький парень. В мире нет справедливости, но есть судьба. И от неё никуда не уйдёшь!
В Самуркенд самолёт прилетел глубокой ночью, и я с трудом обнаружил военную гостиницу. В комнате на панцирных кроватях жило восемь человек.
Утром я вышел на солнечную улицу и спросил у человека в халате, где тут Серый Дом. Там я должен был получить ихние бланки для допросов. Он замахал руками:
– Нэльзя так говорить! Нэльзя!
– Что нельзя? – спросил я, но он уже испарился вместе со своим кувшином и волшебной лампой.
Город расстилался на огромные расстояния. Это была гигантская деревня, по наущению или в гордыне названная городом.
О проекте
О подписке
Другие проекты