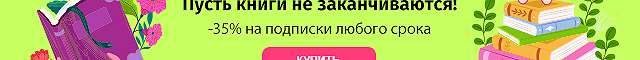
Вычитая тело
Тема книги оказалась провокативной уже на уровне ее начальной разработки, в ходе «цехового» обсуждения. Так, не раз высказывалось сомнение, можно ли вообще делать тело предметом изучения в творчестве Эдгара По. А если нет «предмета», значит, нечего и исследовать. Вопрос о том, почему телесный аспект письма По часто кажется надуманным, не представляющим интереса или даже несуществующим, сам по себе занимателен, поскольку уходит в историю восприятия и осмысления его творчества. Как остроумно заметил в 1972 г. писатель и критик Дэниел Хоффман, целые поколения читателей обманывались, «думая о По как о духовном писателе – если вообще не принимая его за духа»25. Почему Эдгар По, задолго до того, как тело стало предметом интеллектуальной рефлексии, мыслился как автор, далекий от всего материального, чувственного и чувствительного?
На интуитивном уровне сопротивление обычно вызывает пресловутая рациональность По; логика «вычитания» тела диктуется диалектическим мышлением: разум и материя, разум и чувствительность… Мнение о (сверх) интеллектуальном характере творчества По сложилось еще при его жизни, чему он сам немало поспособствовал, прежде всего многочисленными критическими высказываниями и знаменитой статьей «Философия творчества» («The Philosophy of Composition», 1845). По неоднократно сравнивал произведение искусства с механизмом, которое при желании собирается и разбирается на «шестерни» и «колеса»26. Неудивительно, что современники стали писать о его текстах в тех же механистических метафорах. Джеймс Рассел Лоуэлл, автор солидной аналитической статьи о По, опубликованной в 1845 г., к «колесам и шестерням» добавляет «поршневые штоки», которые все вместе работают на достижение единой художественной цели.27 Именно Лоуэллу принадлежит знаменитая эпиграмма на По – своего рода «манифест» рациональности его автора:
There comes Poe, with the raven, like Barnaby Rudge,
Three-fifth of him genius and two fifth sheer fudge,
Who talks like a book of iambs and pentameters,
In a way to make people of common sense damn meters,
Who has written some things quite the best of their kind,
But the heart somehow seems all squeezed out of the mind.
(А вот и По, с вороном, как Барнаби Радж, На три пятых гений, на две пятых сущий мошенник, Который говорит как книга ямбов и пентаметров, Превращая здравомыслящих людей в проклятые стихотворные размеры. Кто написал много лучших в своем роде вещей, Но чье сердце каким-то образом вытеснено умом)28.
По называли «интеллектуальной машиной без балансира» (balance wheel)29, утверждая, что он мыслил и писал «исключительно абстракциями»30. «Математик» и «ремесленник» как никто далек от простых человеческих радостей и страданий; он не способен (в чем его многократно упрекали и продолжают упрекать) вызвать участие, ответный душевный отклик, слезы. Для По с самого начала оказалось закрытым пространство интимно-доверительного, тактильного контакта с читателем, заявившее о себе в литературе вместе с утверждением сентиментализма и ставшее особенно актуальным для американской словесности 30-40-х гг. XIX в.31 «Мистер По так и не написал книгу для домашнего чтения (a home-book), – сетовал в некрологе Джон Р. Томпсон, – Ему были чужды семейные чувства…»32. Согласно Томпсону, По не хватало «симпатии» (sympathy) – ключевое слово для сентиментальной эстетики, определявшей ценностные критерии в современной ему литературе. Подчеркивая интеллектуальный, механистичный характер письма По, его критики совершали, по сути, картезианскую процедуру: оставляя за ним только ratio – отрицали его способность к «чувствительной» коммуникации с читателем.
Самоотверженный апологет Эдгара По Шарль Бодлер подверг мнение Томпсона уничижительной издевке. Требовать от По «семейных рассказов» не более, чем знак мещанства и узколобости американских критиков. Рациональному педанту, не способному затронуть своих читателей, Бодлер противопоставил поэта-самоубийцу – растрачивающего себя для того, чтобы мы получили наслаждение (jouissance) от чтения; сверхчеловека и гения, говорящего на равных не с толпой, а с кругом таких же избранных, как он сам33. В Америке середины XIX в. циркулировало представление не только о душевной черствости, но и об аморальности По. К 1850-60-ым гг. По стал нарицательным персонажем в периодике – гений, который свой талант «развел в алкоголе». Газеты перепечатывали и сомнительную ричмондскую сплетню, намекающую на непристойный характер отношения По к молодой мачехе, второй жене его приемного отца Джона Аллана. Руфус Грисуолд, автор знаменитого, на многие годы очернившего репутацию По некролога34, в «Мемуарах» 1852 г. впервые заявил о том, что само его творчество является отражением безнравственной жизни35. Если пристрастие к алкоголю Бодлер интерпретирует как знак «прóклятости» поэта, его сознательного и продолжительного самоубийства, сплетню, связанную с миссис Аллан, он подвергает сомнению и в конце концов отвергает как бездоказательную36. Более того, он полемически пишет о высоком целомудрии поэзии и прозы По, чуждых не только сладострастия и порока, но и чувственных радостей37. В XX в. Бодлеру вторит Бернард Шоу: «Вы не найдете в жизни того, что найдете у По, если только исключить изобразительное искусство. Великие писатели, как По… появляются там, где исчезают мир, плоть и дьявол»38. Противопоставление По современным литераторам, наблюдавшим сквозь замочную скважину за «пиршествами» плоти39, идеально вписывалось в парадигму служения искусству и порыва к чистой трансцендентности. Миф о По как о «духовном писателе» окончательно утвердился на рубеже веков; его духовность стала знаком воспарения над обыденным и символом нравственной чистоты.
В очерченном контексте особое, символическое значение получило название вышедшего в 1840 г. сборника рассказов По «Гротески и арабески»40. И хотя По заимствовал терминологию из статьи Вальтера Скотта о фантастических новеллах Гофмана41, уже Бодлер предлагает вернуть его «арабескам» изначальный этимологический смысл: восточный орнамент, не допускающий изображение человеческих фигур42. Этой же логике, по всей вероятности, следовал и Шоу, называя произведения По (правда, не прозаические, а стихотворные) «молитвенными ковриками» (prayer carpets)43. Безусловно, на такое чтение во многом провоцировал сам автор. Предметом изображения в его текстах обычно служит в высшей степени условный, далекий от какой-либо опознаваемой реальности мир. Арабеска как орнамент – сквозной мотив его новелл, постоянный объект репрезентации, как бы удваивающий собой модную жанровую «рамку». Неудивительно, что в Европе По (единственный из американских романтиков) стал представлять «l’art pour l’art» в рамках культурного самоосмысления рубежа веков. В силу вступили дихотомии: дух и плоть, земное и трансцендентное, природа и искусство.
В «порубежной» Америке Эдгара По нередко изображали в образе «южного ангела»44. Поэт витает в горних сферах, разговаривая с духами; ему «нельзя подать чашку чая не вызвав при этом сотрясание планет»45. Бодлеровский образ претерпел интересную трансформацию как в литературе, так и в эссеистике. Враждебность и меркантилизм Соединенных штатов, ставших просторной клеткой для поэта («une vaste cage»46), приписывались Северу, которому противопоставлялся ностальгически окрашенный, пасторальный Юг. По жертвует возвышенным поэтическим даром ради низменной прозы, переезд с Юга на Север предрекает его трагическую гибель… В то же время, начиная с 30-х-40-х гг. XX в. слабая референциальность произведений По стала интерпретироваться как эскапизм, чуждый национальной традиции. Влиятельные историки литературы первой половины XX в. – Франк Отто Маттисен, Вернон Паррингтон – помещали творчество По за пределы «основных течений американской мысли»47. В контексте исключения автора из литературного «мейнстрима», главными представителями которого были (среди прочих) Герман Мелвилл, Уолт Уитмен, Марк Твен, мысль Маттисена о «слабо выраженном чувственном, физическом начале» творчества По представляется неслучайной48. Кстати, еще сам Уитмен упрекал По в отрицании «вечных и демократических (sic!) данностей»: «тела, земли и моря, секса…»49. По оказался не вполне американским автором не только потому, что не изображал реалии своей страны. Его творчеству не хватало прежде всего демократичности и «материализма» его соотечественников.
Есть некая закономерность в том, что поэт и Новый критик Аллен Тейт в 1949 г. пишет статью «Наш кузен, мистер По», где рассуждает о положении По в национальном каноне на правах дальнего родственника-южанина, печального, провинциального кузена50, а в статье «Ангельское воображение» 1951 г. определяет «бестелесную экзальтацию духа» как основную интенцию его творчества; название статьи – цитата из рассказа По «Поместье Арнгейм» – неявно отсылает и к образу «южного ангела»51. В Новой критике утвердилась мысль об «ангельском воображении» По как о доминанте духовного над материальным. Любопытным образом По оказался avant la lettre самого литературоведческого движения, утверждающего автономность произведения искусства и второстепенность историко-культурного контекста. Например, в интерпретации Ричарда Уилбера новеллы По становятся местом сражения небесной души и земного «я». Воображение автора устремлено к идеальной красоте, но лишь в состоянии мечты, гипноза или сна душа может на время забыть о своем земном существовании. Образы упадка и тления – это неизменно знак раз-воплощения, постепенного освобождения духовной сущности от физического тела52. «Бегство По в область воображения разрушительно для реального мира чувств», пишет другой исследователь По: материя и содержание (matter) приносятся в жертву формализму и спиритуализму53. «Направление ума По, вера его воображения – могу ли я повторить очевидное? – это устремленность от тела к духу»54 – подводит итог Дэниел Хоффман в книге с остроумным названием «Poe Poe Poe Poe Poe Poe Poe». Все «очевидное» о По уже сказано – к чему продолжать разговор?
Вслед за известным теоретиком литературы Джеффри Хартманом мы склонны считать, что проблема англо-американского формализма заключалась в том, что он был недостаточно формалистским55. Развивая данную мысль, Питер Брукс очень точно заметил, что Новую критику действительно можно обвинить в слишком быстром переходе от формального метода к интерпретациям морального и психологического толка56. Последнее хорошо видно на примере корпуса работ о По, который складывался в условиях полемики с модернистами, обвинявшими По в плохом стиле и творческой незрелости; поэтому в его рассказах в первую очередь искали символическую «глубину» и формальное совершенство. Но начиная с 1960-х гг. акцент был перенесен с фигуры автора на героя-рассказчика; психологизм стал сквозной темой По-ведения (Poe Studies), а «психологический» писатель – новой ипостасью писателя «духовного». Этот переход удачно отмечает Джонатан Ауэрбах: если Ричард Уилбер еще писал о рассказах По как о визионерском опыте самого автора, критики последующих поколений стали акцентировать образ «ненадежного» в моральном и психологическом отношении повествователя и относить все «странности» сюжета на его счет57. По занял иронически отстраненную позицию психолога, изучающего фантазии, видения и сумасбродства своих персонажей.
Нетрудно заметить, что мнения о По как об «интеллектуальной машине», художнике «l’art pour l’art», символисте, формалисте, «мастере психологической прозы» историчны, а не универсальны. В представление о «бестелесности» По каждый раз вкладывались самые разные смыслы, нередко диктуемые прагматикой конкретной культурной ситуации или приверженностью традиционным категориям мышления. В то же время параллельно возникали и другие, альтернативные подходы. На тревожащую, сбивающую с толку материальность По одним из первых обратил внимание еще Достоевский: «В Поэ если и есть фантастичность, то какая-то материальная, если б можно было так выразиться»58. Рационализм По оказался «несколько слишком очевидным», говоря словами его героя Огюста Дюпена, чтобы не заинтересовать, например, психоаналитиков начиная с учеников и последователей Фрейда. В самом деле, композиционная четкость, логическая стройность, нарочитая продуманность у По удивительным образом сочетаются с повышенным интересом к патологии и психическим расстройствам, к мотивам погребения заживо, удушья, расчленения плоти, не говоря уже об их навязчивом повторении в структурных узлах сюжета. «Арабески» могут быть провозглашены символами чистого искусства, но могут быть рассмотрены и с точки зрения вытеснения эротической (инфантильной) телесности.
О проекте
О подписке
Другие проекты