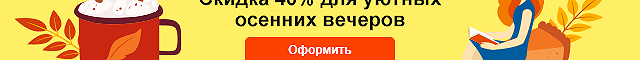
– Ладно. Но все-таки, мать, мне кажется, ты не права. Чего Лельку поддерживать? Она уже большая. А вот тете Томе наша поддержка сейчас гораздо нужнее, и будет правильно, если на похороны Гриши приедет вся семья. Лелька не развалится, если у гроба постоит, да и поминками заниматься лишние руки не помешают. Давай мы все-таки вдвоем приедем, а?
Ну да, мелькнуло в голове у Любы, ты приедешь и тут же узнаешь, что у твоей тетки собственный парикмахерский салон. Про Лелю и говорить нечего, стресс, сопровождаемый температурой, головной болью и обмороком, ей обеспечен. Нет, в Нижнем вполне достаточно старого больного отца, заботы еще и о слабенькой дочери Любе уже не вынести, все ее силы, все внимание и любовь будут нужны Тамаре.
– Нет, сынок, – твердо произнесла она, – не надо приезжать. Останьтесь с Лелей дома, нам с папой так будет спокойнее.
– Ну, как знаешь. Так я жду твоего звонка насчет того, какие вещи собрать и куда привезти.
– Спасибо. Да, еще хочу тебя предупредить, что я дала Ларисе ключи от нашей квартиры.
– Зачем это? – в голосе сына Люба уловила нескрываемое неудовольствие.
– Ты же знаешь, Геннадий сильно пьет и в подпитии буйствует. На днях он избил Ларису, у нее на лице ссадина, а она постеснялась нас беспокоить и терпела его выходки, пока он не свалился и не заснул. Я велела ей ни в коем случае не оставаться с ним дома, если он опять напьется, и приходить к нам вместе с бабушкой. Так что имей это в виду.
– Ну мать… – обиженно протянул Николаша. – Ты даешь. Мне вот еще только Ларки с бабкой не хватало, своих проблем мало.
– Коленька, тебе придется потерпеть, это всего на несколько дней. Потом мы с папой вернемся, и я возьму все на себя. Но ты уж постарайся, чтобы за эти несколько дней ничего не случилось.
– Ладно, мать, – голос Коли внезапно повеселел, – не парься, все будет в лучшем виде. Поезжай спокойно, я с двумя девками и одной бабкой как-нибудь управлюсь. Не бери ничего в голову. Я же понимаю, отчего ты дергаешься. Не волнуйся, пьяным и избитым приходить не буду, хотя и не обещаю, что буду возвращаться домой рано. У меня все-таки дело, бизнес. Да и личную жизнь отменять я не собираюсь.
Принесли билеты на самолет для Любы и Бегорского, вылет в девять вечера. Люба перезвонила сыну, и почти сразу же раздался звонок Родислава.
– Я тебе в кабинет все телефоны оборвал, пока не догадался, что ты у Андрюхи сидишь. Любаша, ну ты как?
– Уже ничего, – она скупо улыбнулась. – Сразу после Томкиного звонка, конечно, совсем плохо было, но сейчас уже получше.
– Почему ты мне не позвонила? – с упреком произнес муж. – Почему я должен был узнавать об этом от Андрюхи?
– Родинька, я так плакала… – призналась Люба. – Я боялась, что позвоню тебе и начну реветь, ты испугаешься, а я ничего толком объяснить не смогу. Мне же нужно было еще папе сказать. А так я немножко отвлеклась, пока с Ларисой вопрос решала, потом с Колей.
– А что с Колей решать? – Любе показалось, что муж на другом конце провода нахмурился.
– Он рвался поехать на похороны, пришлось его долго отговаривать и просить остаться дома с Лелей. Ты же понимаешь, ему нельзя к Тамаре. И Лелю брать я не хочу, все-таки похороны – это для нее слишком травматично. Когда ты сможешь приехать?
– Я еще не говорил с руководством, но надеюсь, что завтра вечером смогу выехать. В крайнем случае – послезавтра. Послушай, я правильно понял, что Андрюха летит сегодня вместе с тобой?
– Правильно. Он сам вызвался, я его не просила.
– С чего это вдруг? Он что, все эти годы поддерживал отношения с Томкой? Или он ради тебя затеял эту поездку?
Несмотря на давящую на сердце тяжесть, Любе на мгновение стало смешно. Родислав ревнует. Да к кому? К Андрюше Бегорскому, который за три десятка лет ни разу не бросил на Любу заинтересованного взгляда и относился к ней очень тепло, даже нежно, но исключительно дружески. Может, и вправду дело в Тамаре? Да, Андрей из тех людей, которые умеют годами поддерживать знакомство, никогда никого не бросают и не забывают, но чтобы с Тамарой… Впрочем, сейчас это не имеет ровно никакого значения. У Томы горе, и Андрей хочет помочь, вот что важно, а вовсе не то, когда он в последний раз видел Любину старшую сестру или разговаривал с ней по телефону.
Люба благоразумно перевела разговор в другое русло и принялась объяснять мужу, что Николай Дмитриевич поедет на похороны вместе с ним, что она поручила Ларисе заботы по хозяйству и дала ей ключи от квартиры и что вылетает она в девять вечера и Коля обещал собрать для нее сумку с вещами и привезти прямо в аэропорт, потому что сама она никак не успевает, ей нужно еще кое-что доделать по работе, прежде чем оставлять команду бухгалтеров и экономистов на целую неделю.
– Послушай, – спохватился Родислав, – а деньги Раисе? Надо же их как-то передать. Я никак не успею.
– Андрей сказал, что решит этот вопрос.
– Опять Андрей! Любаша, я начинаю думать…
– Перестань, Родик. Думай лучше о том, что тебе надо ехать в Нижний вместе с папой. Я боюсь, как бы ему в поезде плохо не стало. Когда заедешь за ним, возьми, пожалуйста, с собой все его лекарства и тонометр не забудь. Если тебе покажется, что что-то не так, заставь его немедленно измерить давление и смотри за ним внимательнее, ладно? Ты же знаешь папу, он будет терпеть недомогание до последнего и ни за что не признается, что плохо себя чувствует. Главное – вовремя дать лекарство, не пропустить начало приступа. Папа еще от путча в себя не пришел, а тут с Гришей такое несчастье. Он когда услышал про Гришу – заплакал. Можешь себе представить, в каком он состоянии. Я была бы тебе очень признательна, если бы ты сегодня вечером заехал к нему, не хочу, чтобы он оставался один.
Последние несколько дней стали для генерал-лейтенанта Головина тяжким испытанием. В семье он был первым, кто узнал об отстранении Горбачева в связи с невозможностью выполнять функции главы государства по состоянию здоровья. Николай Дмитриевич вставал рано и уже в 6 утра услышал сообщение по Центральному телевидению. Он немедленно позвонил Романовым и разбудил их. Люба и Родислав не могли поверить услышанному, сами включили телевизор и увидели концерт симфонической музыки, а чуть попозже на экране возникло лицо диктора, который снова зачитывал Указ, подписанный Янаевым.
– Всё, – мрачно констатировал Родислав, – реформы теперь похерят, будем возвращаться назад.
Для Любы это означало в тот момент только одно: частное предпринимательство, хозрасчет и самофинансирование окажутся под запретом, ни у Тамары, ни у нее самой не будет больше доходов, которые позволят решать финансовые вопросы с Лизой, ее детьми и сиделкой, Колин кооператив прикроют, на государственную службу без высшего образования устроиться ему будет непросто, да он и не захочет, начнет снова болтаться по притонам и затевать разные аферы в компании с сомнительными личностями, чтобы обогатиться, и наверняка попадет в тюрьму, и как дальше жить – совершенно непонятно. Когда в 9 утра радиостанция «Эхо Москвы» передала заявление Бориса Ельцина, в котором Указ Янаева был назван реакционным переворотом и прозвучал призыв к всеобщей забастовке, Люба была уже на работе и слушала радио вместе с остальными сотрудниками. Если до того момента все мысли ее были направлены на вопросы экономические – как теперь выживать? – то после выступления Ельцина ей стало страшно: ощутимо запахло гражданской войной. К концу дня страхи ее оказались подкреплены и введением комендантского часа, и входом в город подразделений Таманской и Кантемировской дивизий и дивизии имени Дзержинского. В девять вечера в программе «Время» показали многотысячную толпу у Белого дома, бронетехнику и Бориса Ельцина, который, стоя на танке, зачитывал указ о недействительности указов ГКЧП на территории России.
– Ничего себе! – ахнул Родислав, увидев эти кадры по телевизору у себя в служебном кабинете – в связи с чрезвычайным положением всем сотрудникам Министерства внутренних дел велено было находиться на рабочих местах. – Это что же получается, ГКЧП совсем ситуацию не контролирует, если допускает, чтобы по телевизору такое показывали? Как же они переворот затевали, если ничего не продумали и не подготовились? Ну, теперь победа демократии обеспечена, такой прокол путчистам даром не пройдет.
Он немедленно позвонил домой и поделился с Любой своими соображениями. Через несколько минут раздался телефонный звонок от тестя.
– Что происходит, Родислав? – строго спросил он. – Что у вас слышно? Что говорят?
– Ну, вы по телевизору сами все видели, – уклончиво ответил Родислав.
Никаких более подробных комментариев он давать не собирался, хватит и того, что он осмелился жене позвонить со своими личными соображениями. Ему было хорошо известно, что среди путчистов находится и министр внутренних дел, и председатель КГБ, посему вероятность прослушивания всех служебных телефонов весьма и весьма высока. Вопрос же о том, сколько у министра сторонников в рядах работников МВД, оставался открытым, несмотря на то что рядовые сотрудники почти поголовно были на стороне Ельцина и демократов.
Генерал Головин уклончивость зятя истолковал правильно и разговор быстро свернул, зато когда через три дня все закончилось и члены ГКЧП были арестованы, сразу же приехал к Романовым.
– Как же так можно: втихую, исподтишка, в спину! – сокрушался он. – Как можно было впрямую лгать народу о состоянии здоровья Горбачева! Не могу поверить, что это сделали коммунисты, члены той партии, которой я верно служил больше пятидесяти лет. Если эти люди – лицо партии, то мне стыдно за то, что я этой партии отдал полвека своей жизни. Если они были уверены в своей правоте, то неужели не могли сделать все как-то по-другому, достойно, открыто, заручившись поддержкой народа, чтобы руки не тряслись, словно они кур воровали?
Знаменитые кадры пресс-конференции, на которых крупным планом показывали трясущиеся руки Геннадия Янаева, демонстрировали по телевидению снова и снова, и трудно было представить, что в стране есть хоть один человек, который этих кадров не видел.
– Так народ-то их не поддерживает, – заметил Родислав. – Они это понимали, потому и действовали тайком.
– Это еще хуже, – мрачно ответил Головин. – Знать, что народ тебя не поддерживает, но все равно делать, означает, что они действовали исключительно в личных интересах, ради власти и собственной выгоды.
– Папа, не надо так, – вступила Люба, испугавшись упаднических настроений отца. – У путчистов могло и не быть собственной выгоды, просто они думали, что народ не понимает, как все плохо, а они там, наверху, все видят и все понимают и действуют во благо народа, который глупый и правды не знает.
– Любка, ты их не выгораживай, – повысил голос отец. – Если эти коммунисты считают народ быдлом, которое нужно вести на веревочке и который сам ни в чем не разберется, то это не те коммунисты, с которыми я бок о бок войну прошел, и это не та партия, которой я верно служил. Еще раз повторяю, если те, кто устроил ГКЧП, это лицо нашей партии, то вся моя жизнь прожита зря.
В тот момент он еще казался уверенным в своей правоте и сильным, несгибаемым, но когда прощался и уходил, Люба заметила, как всего за несколько часов изменилось лицо Николая Дмитриевича. На нем проступили усталость, растерянность и глубокая печаль. Целуя отца в щеку, Люба почувствовала, как дернулись желваки у него на скулах, словно Головин пытался сдержать слезы. Она решила, что ей почудилось – не хотелось верить в то, что он так пал духом. Однако нынешние слезы отца, когда он услышал о гибели зятя, подтвердили ее худшие опасения.
* * *
На похоронах Григория Виноградова генерал Головин впервые в жизни почувствовал себя действительно старым. Он смотрел на Тамару, такую маленькую рядом с высоким Родиславом, сгорбленную, в черном платке, с резкими, заостренными чертами лица, похожую на старушку, и думал о том, что уже никогда не увидит ее красивой и счастливой, такой, какой она была на его юбилее, а до этого – в тот день, когда она впервые привела Григория знакомиться с родителями. Между этими днями прошло восемь лет, и все эти восемь лет Головин не видел свою дочь, а ведь это были годы, когда он мог постоянно видеть ее одухотворенное лицо, ее горящие глаза, ее сверкающую радостную улыбку. Восемь лет потеряно безвозвратно, потеряно из-за его упрямства и нежелания примириться с решением строптивой дочери, с ее выбором. Господи, каким мелким, каким глупым и недостойным сейчас кажется его отцовская суровость и жесткость, каким чудовищным выглядит запрет для жены Зиночки общаться с Тамарой! Как он мог быть таким упрямым и тупым? Да, ему не понравились длинные волосы Григория, его шейный платок вместо галстука, его профессия, его разговоры о свойствах самоцветов, но разве это имеет хоть какое-нибудь значение в сравнении с тем, что он восемь лет не видел дочь и что ее не было рядом, когда умирала Зиночка? Как знать, если бы он не отлучил Зиночку от Тамары, возможно, жена была бы до сих пор жива. Как знать… И как знать, если бы он не проявил тогда такой ослиной упертости и построил бы отношения со старшей дочерью и ее мужем как-то по-другому, может быть, не было бы этого дикого преступления и Гриша бы не погиб. Николай Дмитриевич живо представил себе картину: с самого начала он хорошо принял Григория, и дочь с мужем регулярно приезжают в Москву в гости к Головину, эти поездки стали традицией, особенно по дороге в отпуск и обратно, и вот сейчас, в конце августа, Томочка с Гришей возвращаются из Крыма и останавливаются у отца на несколько дней, а в это время грабители залезают в их квартиру… Да и пусть залезают, пусть берут все, что хотят, но Тамара и Гриша в Москве, в безопасности. Господи, как было бы хорошо, если бы случилось именно так! Но не случилось. И виноват в этом сам генерал Головин. Да, он помирился с дочерью, но это случилось слишком поздно для того, чтобы отношения сложились принципиально иначе. Частыми гостями в доме Головина Тамара и ее муж так и не стали. И отныне Тамара навсегда превратится в маленькую, сгорбленную, раздавленную горем старушку, и никогда больше отцу не увидеть ее красивой, счастливой и молодой. Но если Тамара – старушка, то кто же он, ее отец? Дряхлый старец, которому давно пора в могилу.
Вот и Любочка постарела, сейчас Николай Дмитриевич видит это особенно отчетливо. Черный шарф на голове ее не молодит, но он накануне заметил седину в ее волосах, так что шарф тут ни при чем. Люба стоит заплаканная, глаза опухшие, красные, хотя Николай Дмитриевич плачущей ее не видел. Прячется, наверное, рыдает тайком в подушку или в ванной запирается, так Анна Серафимовна учила: никаких слез при мужчинах, они этого не любят. Тамаре в этом году исполнилось сорок семь, Любочке сорок пять, да что говорить, Кольке уже двадцать шесть лет, если бы он успел жениться, то Любочка могла бы быть бабушкой. Его Любочка, его маленькая послушная добрая девочка – бабушка?! Родька, которого Головин знал еще сопливым пацаном, – дед? А сам Головин – прадед? Боже мой, боже мой, вся жизнь позади, все прошло, и ничего не осталось, все стареют, болеют, слабеют, и только сейчас начинаешь понимать, что было главным, но так и не увиденным и не понятым, а что – глупым, мелким, второстепенным, которое казалось таким важным, что во имя этого мелкого и второстепенного делались огромные и непоправимые глупости. И нет этим глупостям прощения.
Гражданская панихида все не заканчивалась, народу пришло очень много, и много было желающих сказать добрые прощальные слова в адрес Григория Аркадьевича Виноградова. Организацию похорон взяло на себя руководство города – муж Тамары был действительно широко известным человеком, которому многие были благодарны. Николай Дмитриевич, имевший богатый опыт присутствия на панихидах и похоронах, не мог не отметить, несмотря на горе, что выступления были неформальными и проникнутыми искренней печалью и болью. Видно, Григорий был не только превосходным мастером своего дела, но и очень хорошим человеком, коль о нем так горюют. А он, генерал-лейтенант Головин, так и не узнал по-настоящему этого человека, он сам, своими руками, своей глупостью и неуступчивостью лишил себя радости общения с умным, добрым и веселым мужем своей старшей дочери. И ничего уже нельзя исправить. И ничего невозможно переделать. Жизнь уходит, уходит, с каждой минутой ее становится все меньше, а совершенные ошибки остаются, страшные в своей постоянности и неизменности.
На следующий день после похорон Николай Дмитриевич вместе с Родиславом и Андреем Бегорским уезжал в Москву.
– Тамара, – сказал Головин, обнимая осунувшуюся и как будто ставшую еще меньше ростом старшую дочь, – если тебе будет трудно здесь – возвращайся ко мне, будем жить с тобой вдвоем. Мы теперь с тобой оба вдовые и всегда друг друга поймем. Я понимаю, у тебя здесь работа, свое дело, друзья, но если тебе покажется, что рядом со мной тебе станет легче, – знай: я всегда тебе рад.
О проекте
О подписке