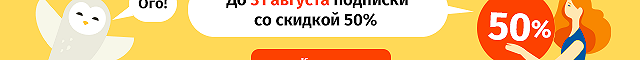
И последнее на сегодня, что я вам обозначу, это ситуация двоеверия. XI-XII века – это очень любопытная эпоха на Руси. Я всегда в связи с этим обращаю ваше внимание на невинную фразу «Ярослав Мудрый построил храм Софии Киевской». Эта фраза должна вызвать у вас живейший вопрос «Чё?» Именно в такой модальности. Услышав ее, вы должны сидеть с вытаращенными глазами и спрашивать меня, как такое может быть. Что в этой фразе не так? Ну София, ну храм, ну Киевская, все вроде нормально. «Ярослав» – какое имя? Языческое. Ну теперь вы дозрели до этого философского вопроса? Почему князь носит языческое имя, при условии, что князь – не просто крещен, но и укрепляет христианство на Руси. Как такое может быть?! Ответ очень простой. Потому что у всех русских князей в XI- XII веках было два имени – языческое и христианское. В крещении он был Юрий. К слову, Борис был в крещении Роман. Князь Владимир в крещении, логично, был Василий. Ну, вы же понимаете, что «Василий» это «басилевс», царь. «Владимир» – «владеющий миром», то есть у нас реально князь по имени Князь. В язычестве Князь, в крещении Царь – вот такая коннотация языческого и христианского имени у Владимира была.
У Ярослава расклад был немножечко другой, я чуть позже объясню. Итак, двойные имена у князей – это нормально. Они все немножко еж и немножко черепаха – немножко язычники, немножко христиане, и выражается это отнюдь не только именем.
Дальше мы с вами читаем как Андрея Боголюбского (впоследствии. кстати, канонизированного) церковники порицали за то, что он в осенний пост ест мясо. Судя по всему, он этим занимался, отмечая языческий праздник урожая. То есть он не просто празднует языческие празднества, а он их празднует прямо на княжеском дворе. Я так понимаю, что более приличные князья для этого уходили в ближайший лесочек, на ближайшее капище. Потому что всевозможные серебряные уборы с языческими символами в Суздале, Боголюбово раскапывают. Рыбаков подробно трактует их в «Язычестве Древней Руси», можно принимать его трактовки или нет, но факт: у княгини два убора – в одном она идет в церковь, в другом она идет на языческие праздники. И это князья, это элита! что уж говорить о простых людях… Вплоть до XIX века в деревнях не венчались – отпевали, да, но не венчались.
То есть культура XI-XII века – это культура, в которой большинство русских людей – язычники и христиане одновременно. Важная оговорка: речь идет именно о русских людях, то есть потомках руси. Мы с вами в прошлый раз говорили, что Киев – мать городам русским, заметьте, что горожане и русские – это было примерно одно и то же, в деревнях жили менее русские люди, в смысле, несколько более славяне, с меньшей примесью скандинавской крови или совсем без. Так вот, для русских горожан было две религии – и язычество, и христианство, они ходили и в церковь, и на капище. Капище было где-нибудь относительно неподалеку от города. Два имени, две религии, парочка божественных покровителей – один из одной религии, другой из другой. Церковники по этому поводу имели много интересного сказать. Тексты до нас дошли – поучения против язычества, сейчас это неоценимый источник информации по славянской мифологии.
Есть основания полагать, что языческим покровителем того же Ярослава Мудрого был бог Ярило. Бог, который связан с отпиранием и запиранием года, жизненных сил природы: он весной приходит, осенью он уходит. Яростный бог, корень имени «-ярый», связан с кровавыми жертвоприношениями, чтобы урожай был хороший. Видимо, связан с воинской силой. И его Ярослав целенаправленно отождествляет со святым Георгием, а по-византийски, как вы понимаете, имя «Георгий» было «Юрий», оцените созвучие Ярила-Юрий. Именно Ярослав вводит осенний Юрьев день, который отменил потом Борис Годунов и стало «вот тебе, бабушка, и Юрьев день». То есть, Ярило отпирает год, и где-то примерно тут есть весенний Юрьев день, христианский праздник. И Ярило осенью запирает год, и тогда нужно поставить здесь осенний Юрьев день, праздник в честь святого Георгия. Подробнее это в лекциях по славянской мифологии. То есть для Ярослава язычество и христианство были во взаимодополнении.
Относительно Бориса и Глеба, чтобы как раз на них закончить. Если вы проедетесь по Золотому Кольцу, то в какой музей краеведческий не зайдете (а весь музей может быть размером вот с эту комнату!), вы найдёте там витрину, в которой непременно будут амулетики домонгольские – и в их числе двухглавые изображения коня, то есть две конские головы в разные стороны развёрнуты, как буква Ж. Эти амулеты в виде двух разнонаправленных конских головок могут быть маленькие, большие, они есть в абсолютно любом музее, как бы он ни был мал. Они были везде. Они же, но из дерева, помещались на фронтоне русской избы – да, именно их называют «конек», вы правы. Что это значит? Это лики двух братьев, они или всадники, или, собственно, сами кони, и эти самые братья охраняют людей от всевозможных бед. Образ, который восходит еще к очень древней мифологии, еще в индийских гимнах XII века до н.э. эти братья есть. Итак, это древний языческий образ, а я вам уже сказала про Бориса и Глеба, что их изображают на иконах в виде всадников. Да, опять же, это образ христианский, который в эпоху двоеверия сливается с древнейшим языческим, и опять же, никаких проблем в этом нет.
Вот на этом абрисе эпохи двоеверия мы с вами на сегодня закончим.
Лекция 3. «Слово о полку Игореве»
Итак, мы с вами остановились на том, что стилем древнерусской литературы в XI-XII веках был стиль прозопоэтический. Давайте на разминочку разберемся с азами: что такое поэзия и что такое проза? Не по формальным показателям, а по сути. Что выражает проза? Так, доносит до нас некоторую информацию. Ежели перед вами прозаическое произведение, то вы спрашиваете, о чем оно. Вы никогда не зададите вопрос «о чем оно» применительно к любому стихотворению. Это абсурдно, это смешно. Вы спросите «какое оно?». Что такое поэзия? Что выражает поэзия? Чувства, совершенно верно. Мне нравится ваш слаженный хор.
Хотите квинтэссенцию поэзии? Никакого «о чем», только «как». Как, как… нервы наружу и узлом.
Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.
Nescio, sed fieri sentio et excrucior.
«Ненавижу и люблю. Как это возможно, ты меня спросишь.
Не знаю, но я чувствую это и страшно мучаюсь».
Катулл. Извините, в подстрочнике. Я его по-латыни помню, а с русскими переводами этого стихотворения у меня плохо, потому что, видите, «экскрукиор» в античном произношении – сразу же понятно: скручивает винтом мясорубки, а русском переводе там «чувствую так и томлюсь»… какое «томлюсь», к чертовой матери? Поэтому я, простите, это читаю по-латыни. Вот вам «Ненавижу и люблю»! И точка. Вот это поэзия. Великая поэзия. И никакие подробности биографии Катулла вам ничего не прибавят к этим двум строкам.
Итак, поэзия должна выражать чувства. Соответственно, прозопоэтический стиль отличается от нормального повествовательного не столько обильным количеством метафор, гипербол, звукописи и прочих поэтических приемов, но самое главное – акцентом на выражение чувств. Все приемы – вторичны, они служат основной цели: бить по нервам, а не по мозгам.
И теперь мы с вами подходим к следующему. Вы мне прошлый раз задали вопрос относительно подлинности «Слова о полку Игореве» и хотели, чтоб я вам что-то начала доказывать, я вам отказалась доказывать, велела слушать Зализняка, он всё доказал. Вопрос в другом. На основании чего возникает вопрос о подлинности «Слова о полку Игореве»? Что заставляет вас сомневаться? Нету подлинника? Совершенно справедливо. Он утрачен в пожаре 1812 года. Подлинников сколько было? Одна штука. То есть это, несомненно, шедевр, и этот шедевр до нас с вами дошел в одном-единственном списке. Что-то как-то маловато, уже это наводит на сомнения. И вот тут мы с вами подбираемся к следующей гораздо более интересной проблеме, оставляя академику Зализняку доказывать подлинность «Слова». А, собственно, почему до нас «Слово о полку Игореве» дошло в одном-единственном списке? Почему его не переписывали? И вы мне сейчас должны этот ответ дать. Потому что не церковный текст? да, не церковный, но летописи тоже светские. Не для исполнения вслух? ошиба-аетесь, еще как вслух! да, не в церкви, ну так и князя надо чем-то развлекать? Оно не учительное? А как же Карл Маркс, который нам радостно сообщил о том, что автор «Слова о полку Игореве» призывал Русь объединиться как раз перед нашествием монгольских полчищ? На Карла Маркса я потом поругаюсь. Так сказать, великий исследователь древнерусской литературы, крупный авторитет в вопросах филологии. Но всё немножечко сложнее.
Я вам третью лекцию ругаюсь, что красота стиля не входит в число ценностей русской культуры. Что потому мы с вами и не знаем про прекрасные образцы церковного красноречия именно как про образцы красноречия, что в советское время это не относилось к категории разумного, доброго, вечного. Что в начале антисоветского времени университетский профессор рассматривал ценность церковного красноречия как содержание, но не как форму. Что ценить художественную форму нас в МГУ практически не учили. Так вот. Я хочу вас подвести к той мысли, что аналогичные проблемы были на Руси примерно всегда, с двенадцатого века точно. Потом Батый, 1240 год – взятие Киева татарами, падение Киевской Руси, становится немножечко не до переписывания, немножечко не до литературы. Сразу же в культуре происходит гигантский откат назад; это мы будем с вами в следующий раз разбирать – повести о нашествии татар, и вы увидите, что в них этого прекрасного прозопоэтического стиля уже и нету. Он очень быстро погиб. Вместе с носителями.
«Слово» в таких адских условиях – что с ним будет? оно не воспринималось ценным из-за своих художественных красот. Они могли нравиться слушателям, но они не осознавались как ценность. Это шедевр для поэтов, которые его стихами переводили. Шедевр для ученых, для умных читателей. А для современников это сказание о малозначимом походе. Причем сказание с недостатками, о которых будем говорить прямо сейчас. Ну и зачем переписывать сказание с недостатками?!
Вот поэтому надо удивляться не тому, что такой памятник в одном списке, а тому, что этот список всё-таки был!
Теперь давайте будем разбираться с политической ситуацией. Как я уже сказала, и мы учили в школе, и, боюсь, учит в школе и нынешнее поколение, Карл Маркс нас осчастливил тем, что главная ценность «Слова» в призыве русских князей к единению, то есть, черт меня дери, это та же самая учительность, которую нам теперь еще и Карл Маркс подсовывает. Нет чтобы со своим призраком дальше бродить по Европе, он полез в наше «Слово». Ладно. Но, знаете, у меня есть маленький такой, робкий вопросик. А вокруг кого призывает объединиться автор «Слова»? Чтобы объединиться, нужен какой-то центр. Нельзя объединиться просто так. «Возьмемся за руки, друзья» это, конечно, прекрасная строчка, но объединялись сначала вокруг Окуджавы, а потом вокруг Митяева. Хороводы бывают вокруг елочки, а пионерские линейки – вокруг знамени. Вокруг чего должен был быть хоровод этих самых русских князей, по мнению автора «Слова»? Вокруг какого политического центра? Киева, совершенно справедливо. Какой это год? 1185. Киевская Русь. Идея объединиться вокруг Киева в 1185 году не вызывает никаких возражений. Ровно до 1240-го года. Когда Киев немножечко на роль центра не годится по техническим причинам. Потому что немножечко Батый. Напоминайте мне краткое содержание учебника истории. Куда у нас смещается политический центр? В Москву? Немного попозже. Сначала он смещается во Владимир, а потом некоторые особо долгорукие товарищи перетягивают это всё дело в Москву. И дальше центр остается в Москве.
Я вас хочу подвести к тому, что, когда Русь от первой волны татаро-монгольского нашествия слегка вздохнула, то Киева или просто нету как политического центра, или, простите, у нас политический центр уже Владимир и Москва. Как вы отнесетесь в каком-нибудь более-менее спокойном четырнадцатом-пятнадцатом веке к идее объединения вокруг Киева? Есть такое русское современное слово из двух букв: «чё?!» Вот понимаете, эта идея или абсурдна, или противозаконна. То есть это или бунт против московского князя, или просто глупость. Понимаете? А Карл Маркс, превеликий исследователь культуры Древней Руси, – естественно, этот момент осознать не мог. Но вы должны это очень четко понимать. Рукописная книга не существует в вакууме. Ее просто так переписывать не будут. Пергамент дорог! с пергамента неправильный текст смоют, поверх него правильный напишут.
Итак, художественные красоты «Слова» никому нафиг не нужны (и именно в такой модальности), политически этот текст то ли вражеский, то ли устаревший, кому как меньше нравится, и, наконец, третий аргумент, почему на это ни в коем случае не надо тратить пергамент? – подсказывайте мне сами. Аргумент номер три против переписывания – это языческие мотивы. Ну, с первых же строк – Боян, Велесов внук, потом ветры, Стрибожьи внуки, «погибашеть жизнь Дажьбожа внука» – это о русском народе соответственно. Раз упомянули – давайте сразу разберем. Как видите, везде слово «внук» упоминается, я в какой-то момент на это обратила внимание и с той поры настаиваю, что слово «внук» в «Слове о полку Игореве», когда речь идет о богах, надо понимать не в буквальном смысле, а как находящийся под покровительством или во власти. Потому что если русский народ назван Дажьбожим внуком, то из этого логически следует, что он мыслится под покровительством Дажьбога. Но, соответственно, и Боян Велесов внук – он, видимо, такой же внук Велесов, как и русский народ – внук Дажьбога. Понимаете? Видимо, речь идет о том, что Велес – это покровитель певцов в принципе, и особо выдающийся сказитель Боян, соловей старого времени, называется внуком Велеса, но не понимайте это в буквальном смысле. И раз ветры – Стрибожьи внуки, то понятно, что есть какой-то бог Стрибог, о котором известно чуть меньше чем о Дажьбоге, но он, видимо, ветрами повелевает. Это был пример навскидку.
Итак, какое-то количество языческих мотивов в «Слове» есть, мы с вами их разберем, причем разберем с очень интересной точки зрения. С нестандартной, я не буду превращать это в лекцию по русскому язычеству. Но опять-таки, когда к четырнадцатому веку Русь медленно приходит в себя и начинает что-то заново переписывать, то естественно, что текст, в котором есть языческие мотивы, снова нафиг не нужен – и именно в такой модальности.
Единственное, что спасет «Слово» для нас, это то, что в четырнадцатом веке снова станет проблема косноязычия. Мы ее с вами разбирали применительно к одиннадцатому веку, к Нестору, когда – хочу сказать, но могу только цитатами. И никак иначе. Своих слов нет. И как мы с вами прекрасно знаем, примером такого косноязычия у нас с вами будет «Задонщина». Когда я хочу воспеть победу на Куликовом поле, а слов нету, поэтому беру «Слово о полку Игореве» и начинаю по цитаточке оттуда нарезать, переделывая текст под актуально-политическую ситуацию. Как именно это происходит, мы разберем в следующий раз.
Кстати, забегая вперед, чтобы закончить с невостребованностью художественности как таковой в несчастной русской культуре. Я хочу обратить ваше внимание на очень любопытную судьбу самой «Задонщины». Во-первых, «Задонщина» – это прекрасное доказательство подлинности «Слова». Списков «Задонщины» восемь, и прелесть заключается в том, что эти все списки очень разные. То есть где-то что-то выкидывали, где-то что-то добавляли, получались разные варианты, так что «Задонщина» в каждом списке цитирует «Слово» немножко по-разному. Хороший аргумент в пользу подлинности. Но восемь списков – это тоже немного. Ну, тут хотя бы хоть событие политически значимое. И как мы увидим, просто красивый текст практически никому не нужен.
Ну и теперь – «Не лѣпо ли ны бяшетъ, братие, начяти старыми словесы трудныхъ повѣстий о пълку Игоревѣ, Игоря Святъславлича?» С чего бы нам с вами начать? Давайте я начну с одной скандальной книги, называется она «Аз и я», автор – Олджас Сулейменов. В советское время эта книга была запрещенной за то, что автор там излагает идеи пан-тюркизма. Ну, эти все пантюркистские идеи мне показались такими наивными, что у меня они в один глаз влетели, из другого вылетели. А чем она интересна применительно к «Слову о полку Игореве» – тем, что Сулейменов доказывает, что автор «Слова о полку Игореве» прекрасно говорил по-половецки. Это нас с вами ни капельки не удивляет. Если мы с обратимся к биографии Игоря Святославича, то не без интереса выясним, что незадолго до событий, воспетых в «Слове», он с ханом Кончаком – что? подсказывайте мне… дочка? это будет потом, уже после разгрома он сына на дочке Кончака женит, а до? – он с ханом Кончаком объединился против кого-то из русских князей; угадайте чем закончилось – снова поражением, лузер Игорь был тот еще. И они с Кончаком в одной лодке удирали. Прекрасная история. На этом основании предполагать среди образованных русских людей хорошее знание половецкого языка просто-таки очевидно. Вовсю общались. И Сулейменов пишет, что знаменитые темные места в «Слове о полку Игореве» это просто-напросто куски, которые идут не по-русски, а опять же на половецком языке, причем в одних случаях используется один диалект, в других – другой. То есть они записаны русскими буквами, а список-то у нас XVI века, за это время их попытались какими-то русскими словами передать, получился абсурд, а в оригинале автор просто на половецкий переходит. Например, Гзак в споре с Кончаком употребляет слово «хатун» – «женщина», говоря о половецких женах русских князей, а потом это «хатун» превращается в «ходына», и уж в какие «ходы на…» оно превращается дальше в комментариях – лучше не знать. Список разъясненных темных мест впечатляющий. Еще пример. Там упоминаются какие-то «куры» у города Тмутаракань, так слово «куры» надо читать не по-русски, а вот по-тюркски. А по-тюркски это «стены», и если кто-то бежал до стен Тмутараканя, это логично, а бежать до каких-то куриц – это абсурдно. Такой подход мне показался исключительно разумным и, да простится, единственно ценным в этой книге. Всё остальное – ну, пантюркистские идеи… примерно, как панславянские: ну, пять тысяч лет назад славяне пришли в Индию и привезли с собой слонов, или, как вариант, приехали в Индию на мамонтах, запряженных в русские сани. Мамонты облезли, слонами стали. Вы смеетесь, а я знаю теорию, что все народы мира происходят от арабов. Это ученый вещал на полном серьезе. Поэтому что панславизм, что пантюркизм, что панарабизм, что какой-нибудь еще пан-….скучно, по-моему. Сначала смешно (первые пять минут), потом скучно. Но книга Сулейменова была в Советском Союзе запрещена, тираж изымался, если где там эта книжка уцелевала, то стоила чуть не тысячу рублей, советских. Когда зарплата нормального среднестатистического интеллигента 120-130 рублей, тут книжка – тысячу стоила. Вау! Что ж, идею здравую из этой книжки, что автор «Слова» свободно владел половецким языком и явно не для общей эрудиции, а по причине того, что без знания свободного половецкого прожить тогда было сложно (по крайней мере, знатному человеку), эту идею мы с вами берем себе на заметочку.
И тут мы переходим к следующей прелюбопытнейшей теме. Это тема личности Игоря Святославича. Что мы с вами о нем знаем? Ничего хорошего. Одно короткое современно слово, и это слово «лузер». Кто хочет, чтоб я выражалась на более литературном языке, у меня есть классическое русское слово – лопух. Но, знаете, лопух – это слишком мягкий термин для этого не просто мерзавца… мерзавцев на Руси было много, но это был мерзавец-неудачник. Чему, разумеется, нет никакого прощения.
О проекте
О подписке
