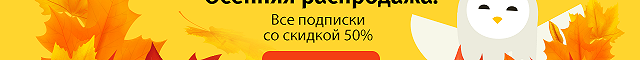
Вот и Виктора Семеновича пытали так, как, пожалуй, не пытали никого из его бывших подопечных, хотя Абакумов мягкосердечием не страдал. Самолично истязал и подчиненных поощрял. На «Ленинградском деле» руку набил – Торквемаде не снилось. И с выселением народов, не угодных Вождю, сантиментам не поддавался, крови не жалел: ни детской, ни стариковской, ни женской – лес рубят… Но чтобы держать три месяца в кандалах в холодильнике, обливать на морозе водой, превращая в полуживую обнаженную статую, делая своего бывшего начальника – Министра Госбезопасности СССР – полным инвалидом, такого не бывало; а начальником Абакумов был заботливым: добился и повышения окладов для всех чинов министерства, и довольствие улучшил, и озаботился жилищными проблемами. Все эти благодеяния припомнили, когда выбивали из него признания в государственной измене, сионистском заговоре в МГБ: тормозил «дело врачей» или молодежной еврейской организации. Ну, и шпионаж, конечно. Как же без этого. Что поразительно: этот пытарь не сдался. Безжалостным служакой был выдвиженец Берии, но оказался мужественным человеком. Все выдержал. Нечеловеческое. Нацисты до таких изысков не додумывались, что, впрочем, естественно: советское – значит, отличное! Но не признался: ни в шпионаже, ни в наличии заговора врачей. В отличие от Антона Мануиловича, которого всего-то на́всего на дыбу вздернули и отвесили уже бывшему первому генерал-полицмейстеру Петербурга 25 ударов кнутом (это было ещё во время следствия, до того, как палач усердно полосовал его спину на «публике» по вынесенному приговору – то было уже наказание перед отправкой в пожизненную ссылку). Так Антон Мануилович после 25 ударов сразу же и раскололся: выложил все, что знал (а знал он мало), и, главное, все, чего не знал, но подсказали: и про Петра Толстого, и про Ивана Бутурлина, и про Ивана Долгорукого, и про генерал-лейтенанта Ушакова, и про многих других, и про заговор – или не заговор, а смущение, супротив всесильного и всебогатейшего Меншикова, собиравшегося всю власть прибрать к рукам по кончине императрицы Екатерины. Впрочем, не он – Девиер – первый, не он – последний. Железный Нарком с ежовой рукавицей, с которым работал знаменитый пытарь-виртуоз – тяжеловес, Помощник Начальника следственной части НКВД Борис Родос (сын портного-кустаря из Мелитополя), также признал все свои вины, не столько истинные (гомосексуализм, который тогда – при Гитлере и Сталине – преследовался по за кону, «излишнее рвение в проведении террора» и применение «незаконных средств» ведения розыска и др.), сколько вымышленные (агент разведок Польши, Германии, Японии, Англии и пр., подготовка антисталинского путча и т. д.) – Родос бил мастерски, с наслаждением.
Что не мог понять первый Санкт-Петербургский генерал – полицмейстер Антон Девиер (де Виейра) (как, впрочем, и я), так это то упоение, восторг, вдохновение и добровольное, непоказное рвение, с которыми пытали, истязали и казнили своих вчерашних властителей, идолов, небожителей. Казалось бы, «своему» – коллеге – можно и снисхождение оказать, полосовать аккуратнее, с нежностью. Эти небожители всячески прикармливали своих собак – чекистов и катов. Кровавый карлик, к примеру, что бы там ни было, в четыре раза повысил оклады всем сотрудникам НКВД, эти оклады при нем превышали соответствующие оклады в армии, в партийном аппарате и в государственных органах. Да и Антон Мануилович – большой любитель штрафов – весь прибыток – в казну, а стало быть, и в его полицейское ведомство. Все лишняя копеечка в карман полицейскому. Ан нет. Именно поэтому эти собаки так самозабвенно терзали кормящую руку. Ведь не каждый день выпадает сладостное счастье истязать такую фигуру, как грозный Глава Сыска. Ещё недавно чекистов бросало в дрожь, когда они видели «железного наркома», а сейчас он – абсолютно голый, в Сухановской тюрьме: «раздвинуть ягодицы», «рот разинь шире, тварь». И по яйцам, педерасту… Или распластанного Полицмейстера с истерзанной в кровавые клочья спиной, которого вывалили в телегу вместе с другим осужденным – обер-прокурором (тоже бывшим), Григорием Скорняком-Писаревым, и повезли из Петербурга в Жигановское зимовье. Далече. 800 миль северо-восточнее Якутска.
– Почему?! Нет, не кнут, кнут – понимаю, почему с таким наслаждением, что я ему сделал?! – Глаза Антона Мануиловича – мужчины статного, высокого, красивого, некогда сурового, властного, но и европейски обходительного (обходительность де Виейра отмечали и друзья его, и враги), любимца Петра – полны тоскливого недоумения, тихого ужаса.
– Так это ж Россия, голубчик! Слава Богу, не в Португалиях или Голландиях проживаем…
Требуйте полного налива пива!
Ленинград. Его уже нет. Он закончился. И Петербургом уже не будет. Никогда. Остался Ленинбург какой-то. Блистательный, вылизанный. Не хуже – лучше. Другой. Чужой. Современный.
Куда я еду? И еду ли, или меня везут…
Удивительная Россия страна. Я другой такой страны не знаю, где так вольно. Вольно, но без выезда. Петербург, по словам Достоевского, «самый умышленный и отвлеченный город на свете». Умышленный – и выдуманный, и искусственный, то есть рожденный по воле некоей идеи, умысла, и вместе с этим – умышленный – сделанный с умыслом, тем самым умыслом, с которым совершают преступление; город, преступления и наказания порождающий. Город «полусумасшедших», фанатиков, гениев; город-мираж, туман. «А что как разлетится этот туман, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?». Отвлеченный город, отвлеченный от человека, как, впрочем, и страна, не знавшая и не желавшая знать этого человека. Умышленный город, рождённый Императором, собственноручно пытавшим своего единокровного сына. Город, в котором убийцы одного законного Императора награждались высшими чинами, орденами, несметными поместьями и живыми душами, убийцы другого – продолжали нести службу – с повышением (Левин Август фон Беннигсен через год после страшного 1-го марта был произведен в генералы от кавалерии), а понесшие «наказание» в худшем случае были удалены в свои роскошные поместья (как граф Петр Алексеевич Пален – под Митаву, в свой дворец в Кауцминде). Молодые же офицеры, прежде всего, «вне разряда», невнятно рассуждавшие о цареубийстве, ничего не предпринявшие не только для этого кровавого акта (Пестель, при всей преступности намерений далекой юности, был взят под арест за полмесяца до Южного возмущения, Лунин узнал о восстании в Петербурге из газет – он служил в Варшаве адъютантом Великого Князя Константина и уже восемь лет не принадлежал к Обществу, практически не общался с его членами и т. д.), но даже для восшествия на престол законного наследника – второго сына Павла – безропотно простоявшие под картечью, хоть и с оружием в руках, были приговорены к четвертованию.
…Приговор, вынесенный 9 января 1775 года Емельке Пугачеву – душегубу, кровопийце, реальному смутьяну, садисту-убийце – вызвал оторопь в обществе и неудовольствие при Дворе. Все же конец осьмнадцатого века! А тут: «Емельку Пугачева четвертовать, голову воткнуть на кол, части тела разнести по четырем частям города и положить на колеса, а после на тех местах сжечь», – определил суд, заседавший в московском Кремлевском дворце. Даже генерал-прокурор князь Александр Алексеевич Вяземский был фраппирован. Екатерина обтекаемо рассуждала в письме к князю: «Пожалуй, помогайте всем внушить умеренность как в числе, так и в казни преступников. Противное человеколюбию моему прискорбно будет. Недолжно быть лихим для того, что с варварами дело имеем». В ответном приватном письме князь сообщал «по инстанции», то есть Императрице: «Намерен я секретно сказать Архарову /тогда – обер-полицмейстеру Москвы/, чтоб он прежде приказал отсечь голову, а потом уж остальное /при четвертовании сначала отсекали руки и ноги, а только потом голову/; примеров же такому наказанию /давно/ ещё не было, следовательно, ежели и есть ошибка, оная извинительна». Николай Петрович Архаров всё выполнил, натурально возмущаясь ошибке палача: «Ах, сукин сын! Что ты это сделал!!» – за что был вознагражден вниманием Императрицы; в 1795 году он стал генерал-губернатором столицы. После же облегченного четвертования Пугачева этот вид казни не применялся, и вообще публичные экзекуции на Болотной площади прекратились. Это было в 1775 году…
…В XIX веке в Петербурге – просвещённой столице – вспомнили. Четвертовать. Причем приговор вынесли тогда, когда вознагражденное или прощенное цареубийство было на памяти всего лишь одного поколения: 1762 (убийство Петра III) – 1825; все декабристы были юношами или детьми во время убийства Павла, все видели, понимали, запоминали. Приговорены они были практически единогласно: 35 сенаторов и 13 особо назначенных чиновников во главе с престарелым незлобивым князем Петром Лопухиным, служившим пяти императорам, все повидавшем и всё одобрявшем, как и все остальные судьи. Четвертовать, писали Сперанский (которого декабристы в случае удачи планировали ввести в состав Временного правительства) и Нессельроде, Васильчиков и Балашов, Куракин и Ланской. Цвет Петербурга. Даже Петр Толстой – «добрый, честный, правдивый», известный бессребреник, правдолюб, бывший генерал-губернатор Петербурга «с долгами», а ныне – сенатор. Лишь адмирал Николай Семенович Мордвинов (который, по словам Пушкина, «заключал в себе всю русскую оппозицию») осмелился подать голос супротив этого варварства («лиша чинов и дворянского достоинства и положив голову на плаху, сослать в каторжную работу»), да адмирал и литератор Александр Семенович Шишков – обтекаемо, но не требуя четвертовать («принадлежат к первым преступникам» – слово «четвертовать» престарелый любитель древностей вывести не смог)…
Конечно, подписанты были уверены, что молодой царь приговор смягчит. Иначе быть не могло (и не может!). Правительство у нас единственный европеец, говаривал Пушкин. Эту полубыль-полунебыль по поводу «правительства-европейца» (в разные времена по-разному) создавали и создают рабы, загодя обеспечивая себе место в числе самых верноподданных, преданноподанных и выполняя тот негласный незримый заказ, который посылает единственный в России «европеец» – правительство. Может, действительно, единственный… В любом случае, так добродетельно, так пьяняще радостно быть тем самым навозным фоном, на котором появляется господин – весь в белом!
Умышленный город, где после бала возможен и закономерен прогон сквозь строй.
Прощай, холодный и бесстрастный,
Великолепный град рабов,
Казарм, борделей и дворцов,
С твоею ночью гнойно-ясной,
С твоей хладностью ужасной
К ударам палок и кнутов,
С твоею подлой царской службой,
С твоим тщеславьем мелочным,
С твоим…
………………………
Гордость страны – город на Неве, многолетняя столица Российской Империи, названа иноземным именем, по-голландски: Санкт-Питер-Бурх. Попробовал в Голландии найти название города с русским именем. Или французским, итальянским… Во Франции, в Германии. И так далее по атласу. Не нашел. Город Святого Петра. Но это не в Италии. Там – собор или площадь Святого Петра в Ватикане, а это – город в нынешней России. Впрочем, в этой стране все возможно, если Андреевский флаг или триколор – гражданский флаг Российской империи – поднимаются под звуки советского гимна на музыку бывшего регента храма Христа Спасителя, а впоследствии генерал-майора и дважды лауреата Сталинской премии Александра Александрова. Возможно все, если город, переживший жуткую блокаду, неслыханный голод, познавший даже людоедство, масштабов которого мы даже не представляем, потерявший более 650 тысяч жителей, умерших от голода, – этот город-герой, поистине герой, через 70 лет принимает нацистов со всех концов света, причем принимает не подпольно, а официально: высшие руководители, которые через пару месяцев будут стоять на победном громыхающем параде, жмут руки последышам нацистских убийц. Всё возможно, если в день Победы напяливают георгиевские ленточки (именно георгиевские, а не гвардейские!) – отличительный знак не только георгиевских кавалеров Российской империи и Добровольческой армии, которых чекисты – кумиры и учителя нынешних хозяев – за одну такую ленточку ставили к стенке или сначала прибивали гвоздями погоны и эти ленточки к плечам или груди, а уж потом ставили к стенке. Георгиевские ленты были отличительным знаком формы воинов Освободительной армии генерала Андрея Власова и обязательной деталью формы Русского Охранного корпуса в подчинении командования войск СС Третьего Рейха, то есть тех, кого вешали и гноили в советских лагерях. Гвардейские ленты с 1942 года присваивались Морской гвардии, стали деталью формы – бескозырок краснофлотцев, а также лентами колодки «Ордена Славы» и медали «За победу над Германией». Гвардейские ленты абсолютно походили на георгиевские. Что это было – безграмотность, потуги быть «как большие» или признаки шизофрении: советский воин с гвардейской – георгиевской – лентой ведет к стенке своего соплеменника с такой же лентой. В любом случае – сомнительный символ. Помню фотографию группенфюрера СС атамана Андрея Шкуро в генеральском мундире Третьего Рейха с георгиевской лентой на груди, полагавшейся ему как кавалеру Георгиевского оружия… Кто кого победил? Кто кого повесил: Сталин Шкуро или Шкуро Сталина? Что празднуют? И – празднуют или угрожают? Угрожают кому – побежденным или союзникам? Или всем, кому ни попадя… Зазеркалье. То прорубили декоративное оконце в Европу и всю историю этим гордятся, то перманентно завешивают железными занавесями – и тоже гордятся. И Новый год отмечают раньше Рождества. Два красных дня календаря: 1 и 7 января. Единственная страна в мире, где сначала празднуют обрезание еврейского мальчика, а затем Его рождение. То есть родившемуся Иешуа (Иисусу) сделали обрезание, началось новое летоисчисление – Новый Год, и это празднуют – Праздник «Обре́зание Господне» (1 января), а потом Он, уже обрезанный и проживший 7 дней, родился – Рождество Христово (7 января), и опять – торжество. Чему удивляться, если Храм Вознесения Господня в Колпино располагается на проспекте Ленина! Лимония…
Умышленный город. Любимый. Единственный. Русский намек на Европу. И нет ничего прекраснее на свете, нежели сиренево-розовый рассвет на Неве, шуршащие по асфальту поливалки, чайки на буйках, серебристая гладь Невы, маяки Ростральных колонн. Пивной ларек на углу Короленко и Артиллерийской. Запах отцветающей поздней сирени. Запах начала жизни.
«Чернышевская. Следующая станция – Площадь Ленина, Финляндский вокзал. Двери закрываются».
Партия сказала: «надо», комсомол ответил: «есть»!
Незаметно проскочили Клин. Грустно. Около пятидесяти лет прошло с той поры, как ранним солнечным прохладным июньским утром – часов 5 утра было – я сошел с поезда и побрел в сторону дома-музея Петра Ильича Чайковского. Было ещё безлюдно, пыль не поднялась, трава блестела росой. Впереди было лето, а может быть, и дальнейшая жизнь в Клину. Что ждет? Все казалось светлым и обнадеживающим. Рядом – Москва, тогда я любил этот город. Да и Тверь – то бишь Калинин – невдалеке. Не заскучаю. С Московского вокзала, через туалет, – на трамвай. Двадцать пятый или девятнадцатый от Московского вокзала шли прямо ко мне. Остановка «Угол Салтыкова Щедрина и Литейного». Нет, целовать холодные руки все же приятнее, нежели горячие или тепленькие. Холодные, пахнущие свежим цветочным мылом, снегом, утром. Помню… Запах, кожу. Легкий прозрачный пушок на внешней стороне запястья. Тонкий золотой обруч на кисти помню. Все дальнейшее забыл. Нельзя вспоминать. И не хочу.
…Почему Салтыкова-Щедрина, который никогда на этой улице не жил и, кажется, вообще не бывал? Мы все называли ее Кирочная. Она была и осталась Кирочной. Хотя и это название – неправильное. Когда-то это была 5-я Пушкарская (Артиллерийская) линия Литейной стороны Петербурга, в 1825 году переименованная в Кирошную улицу. Это мне рассказала Серафима Ивановна Барыкина, учительница литературы и русского языка в школе № 203 имени Грибоедова – знаменитая была школа! Анненшуле. Я ее поправил – Кирочная. Серафима Ивановна, маленький «колобок», – учительница властная, строгая, непререкаемая (чуть что: «Дневник на стол!») – непривычно смутилась, но повторила – Кирошная. Так как разговор проходил в неформальной обстановке уже после моего окончания школы, да и времена случайно и, естественно, кратковременно, наступили «вегетарианские» – начало 60-х – пояснила: «От слова «кирша» – Kirche – «кирха». И я вспомнил. Наш придворный кино театр «Спартак» ранее – до революции – был кирхой, то есть лютеранским храмом, одним из самых посещаемых в городе. Анненкирхе. Сначала звался – церковь Святого Петра. При окончательной перестройке был переименован. Чтобы не путать с евангелическо-лютеранской церковью Св. Петра – Петрикирхе на Невском, 22/24. И как было не переименовать в честь благодетельницы – Анны Иоанновны, жаловавшей лютеран, особливо германцев, и пожертвовавшей на строительство тогда деревянной церкви одну тысячу рублей. Освящение нового здания кирхи, взявшей имя Императрицы, почтили своим присутствием патроны церкви граф Миних и граф Ливен.
Анненкирхе, Анненшуле, Петрикирхе, Петришуле… Немецкий Петербург. Стержень города, его культуры. Исчез стержень – окислился, растворился, распался, – и ушла в прошлое та удивительная, неповторимая атмосфера этого города. Не только поэтому, но и поэтому тоже. В огромной степени поэтому.
Кому посчастливилось глотнуть последние капли этой культуры, тот поймет.
О проекте
О подписке
Другие проекты