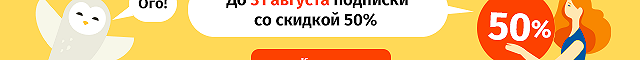
Летом сорок второго
С телеги слез. Глотнул из кринки.
Сел на завалинку устало.
Детишкам – городской гостинчик,
а бабе – новый полушалок.
Поправил осторожно ногу,
хромую с первой мировой,
сказал чего-то про дорогу
и густо задымил махрой.
Послушать новости и сплетни
сошлось со всех пяти домов
всё населенье: бабы, дети,
да двое дряхлых стариков.
Неторопливо, невзначай,
он рассказал, кого встречал,
что в городе читал газету,
что был на почте – писем нету…
Торговля вроде шла сама,
хоть не в убыток, да не в радость.
Эвакуированных – тьма,
особо те – из Ленинграда.
И, вроде на себя сердитый,
он отвечал, крутя костыль,
что магазины-то открыты,
да там хоть шаром покати,
мануфактуры и посуды
за деньги вовсе не достать,
и что дела на фронте худы:
всё продолжаем отступать.
А на базаре ходят толки,
что запасайте, мол, муку,
что немец скоро выйдет к Волге,
а там допрёт и до Баку…
…И бабушка тогда привстала,
и как-то ростом выше стала,
и в наступившей тишине
негромко так она сказала:
– А ну-ка, повтори-ка мне!
Сказала – Нет, ты повтори,
куда сказал ты выйдет немец?
…И сразу все забереглись,
как будто между нами нежить.
А он, сперва остолбенев,
приподнялся, опять присел,
и, помянувши час неровный,
ещё прибавив оборот,
– Да что ты! Ну, прости, Петровна!
Понятно, брешут! Не дойдёт!
…И, поперхнувшись, кашлял долго,
костыль отбросив на дрова…
В то лето немец вышел к Волге.
Но бабушка была права!
Полководцы
Сегодня маршалу не спится —
наутро переломный бой.
Припоминается, как снится,
князь Дмитрий, прозвищем Донской…
Всю ночь тревожно было князю,
бродил в лугах, молясь без слов,
и слушал, лёгши ухом наземь,
гуденье труб и плачи вдов.
И было внятное веленье,
что нет ему судьбы иной,
и для Руси – одно решенье:
Иди за Дон! Да будет бой!…
За тонкой стенкой – раций свисты,
трезвонят зуммеры подряд,
охрипшие телефонисты
открытым текстом матерят.
Отставил маршал все сомненья.
На карте – местность за рекой.
И есть всего одно решенье
– Идём за Дон. Наутро – бой!
Всё решено. И все готовы.
И битвы час не изменить…
Рассвет. Светлеет Дон подковой…
В руках кольчуга чуть звенит.
Ох, сколько ляжет здесь народу!
Недаром – переломный бой!
И мнится князю воевода —
из будущего – тот, другой…
Фронт безоружных
Снег.
И копоть на нём.
И труба самовара
вылезает откуда-то из-под земли.
Середина войны.
Пепелище пожара.
Тихо.
Белые сумерки.
Выход зимы.
Две цепочки следов
завязалися в узел.
Выплеск бледных помоев
прихвачен ледком.
Опускается крутенько лаз заскорузлый
до дыры,
заслонённой пожарным щитом.
Отодвинь же его
поэтичный и пылкий
юный житель высокоэтажных домов.
Там темно.
Но представим, что тлеет коптилка
или две головешки осиновых дров.
Потолок —
не добротной работы сапёров,
хлипкий кров из обугленных ветхих жердей.
Через щели песком просыпается шорох
на пустой чугунок,
на тряпьё,
на людей.
Измождённая баба
с испугом,
засевшим
в глубине навидавшихся горя зрачков.
Обезноженный дед,
от цинги почерневший.
И последний сынишка трёх с чем-то годков.
Выплывают слова, позабытые нами:
худоба,
истощение,
голод,
рахит…
К недалёкой и незасыпаемой яме
скоро новую стёжку
беда проторит…
Но они не заплачут.
Они – в обороне,
свой участок держать,
сколько могут,
должны…
Это тоже война,
на особенном фронте,
не с грохочущей,
не с огневой стороны.
– Эх, помочь бы!
– Но как?
Сквозь густые десятки
разделяющих лет дотянуться к курку?
…Умирающий дед.
Хилый мальчик.
Солдатка…
– Вот ружьё!
В партизаны!
В работу!
В строку!
Чудо Георгия о змие
Памяти маршала Жукова.
Во прах повержен змей,
И на коне Георгий.
Тут шутковать не смей,
Благоговей в восторге!
Но только почему
Без всякого восторга,
Столь безотрадно хмур
Глядит окрест Георгий?
Он отирает меч,
Скорбя челом остывшим,
И помнит всех предтеч
В сражениях погибших,
И сонмы многих жертв
Невинно убиенных…
Да, змей, похоже, мертв.
Но сколько жизней бренных!…
За всех, за всех Георгий отомстил!
Но никого не воскресил…
Победа
Ревут безлошадные бабы…
Ржаной любопытный росток.
Уже пригревает к обеду.
И будет последний салют…
С утра объявили Победу!
Уже никого не убьют!
А дальше – труды, а не муки.
Но хмуро стоит у межи —
Один на село – однорукий,
Худой и угрюмый мужик.
Сиротка соседская храбро
Прижалась к его сапогу…
Ревут большерукие бабы.
Никто ни пред кем не в долгу.
О, сколько же надо осилить,
Чтоб право на слёзы иметь,
Когда вызывает Россию
Фанфары ликующей медь,
Когда наивысшее право —
Худой однорукий мужик,
Когда воплощение славы —
Сиротки доверчивый лик,
Когда завещание дедов —
Схороненных зёрен руда,
А в корне взошедшей Победы
Тяжёлая глыба – беда.
Моряк
Он приходил – тяжёлый и земной,
В движениях неспешен и просторен.
За чёрною шинельною спиной
Мятежно пахло воздухом и морем.
А дома было тесно и тепло,
И всё казалось маленьким и тонким,
И от шагов чуть тренькало стекло,
И пахло щами, пудрой и ребёнком.
Всегда хватало мужиковских дел.
Шёл нескончаемый ремонт в квартире,
Где молоток геолога висел
Как символ памяти о довоенном мире,
Как детская любовь наивных дней
С её весёлым, терпким беспокойством,
Как обещание вернуться к ней,
К рудоисканью и землеустройству.
Но шли послевоенные моря,
С Атлантики шумело зыбью злою.
Погоны. Чёрный китель. Якоря.
А в доме пахнет твёрдою землёю.
Осколок
Осколок добровольческих полков,
Двенадцати дивизий ополченья,
Не любит вспоминать, не любит слов
И киноэпопей про окруженья.
Он любит сад, антоновку в цветах,
И лес, проросший дружными грибами.
Ещё он любит чёрного кота
С невероятно белыми ногами.
На встречи он не ходит каждый год,
Предпочитая посидеть за чаем,
Поскольку всё равно там никого
И никогда уже не повстречает.
А где-то в дальнем ящике лежит,
Притягивая внуков, как магнит,
Забытый им осколок – бесполезный,
Заржавленный,
Но всё-таки железный!
Эта долгая война…
Её давно не ищут ордена…
Но старший сын всё хмурится упрямо,
И старится, и говорит: «Война
Не кончилась – не возвратилась мама».
Он совершенно мирный человек,
И поседел за тихими трудами,
Но глубоко запрятан в голове
Шрам памяти – не возвратилась мама.
И в День Победы, робкий, как юнец,
У обелиска с красною звездою
Он думает: «Ещё война, отец,
И мама не вернулась к нам с тобою».
А старший внук, философ и шпана,
У почтальона клянчит телеграмму
И знает, что не кончится война,
Покуда папа не дождётся маму…
Комбат
Старичок,
по ночам потихоньку ловивший стерлядку,
оказался комбатом
жестоких и честных годов.
Он не хвастался этим, тянул пенсионную лямку,
был нешумно уважен в бесчинном кругу рыбаков.
Пиджачок его ветхий был чуждым медальному лязгу.
Ненавязчив бывал он в рассказах о тех временах.
И ему
рыбинспектор прощал потихоньку стерлядку,
что охотно брала на его немудрёную снасть.
За других не скажу,
а меня заедала досада,
и ложился на сердце
шершавый и тягостный ком,
что геройский комбат,
обожжённый огнём Сталинграда,
доживает свой век
незначительным истопником.
Но, ведь этот смирняга —
ужели забыла Европа? —
есть причина того,
что она сохранила лицо,
и что эта стерлядочка
не на столе Риббентропа,
а что ей угощает он
внуков погибших бойцов.
Неужели душе государства дозволена грубость?
Не о том ли скрежещет по совести
жёсткая жесть,
что лихие комбаты,
прошедшие медные трубы,
обретаются в званиях
дворников и сторожей?
…Он обиды не видел.
Лицо его было открытым.
Он смотрел,
как творением мира
измотанный бог.
И сказал, что ему-то
довольно и быть неубитым,
и достаточно знать, что когда-то
он сделал, что мог.
№9201
Видели безумную старуху?
Шопотом хирургу говорила:
– Доктор, ампутируйте мне руку.
Не хочу, чтобы со мной в могилу…
Жилистая. Крепкая. Простая.
– Что с тобой, мамаша? Дайте бром ей!
Тронула рукав. Не закатала.
Отвернулась. – Там остался номер.
Был хирург с людской бедою свычен,
Только и его обдало жаром.
Это – как в лицо прожектор с вышки.
Это – как вдогонку лай овчарок.
…А старуха истово твердила:
– Не хочу, чтобы со мной в могилу…
Дети войны
Поколение, поколение
урождения предвоенного!…
Всё запомнила наша нация:
оккупация, эвакуация…
Школы тёмные проморожены,
стынут ноги в дырявых валенках.
Был богатством платок в горошину.
Был закон: не обидеть маленьких.
Были в штатском мужчины – странными.
Были женщины в лётных кителях;
обручальные кольца родителей
в оборонные фонды сданные;
провожания эшелонные;
мама в чёрном – белее извести…
Это ясно – когда похоронная;
было хуже – пропавший без вести.
Шепчет мальчик: хлебушка хочется…
– Где же взять то? – горюет бабушка —
Хлеб по триста рублей буханочка!…
С той поры у мальчика комплексы —
отвращение к спекуляции.
Проходящие танки клацали.
Каждой ночью всё ближе зарево.
Вот, фашисты уже в Захарово…
Отдаляется всё, естественно.
Остаются прививки оспины.
О концерте в военном госпитале
не забудет никак Рождественский.
Остаётся в блокаде Воронов,
с той зимы, застрявшей под Пулковом…
Что же, нет ничего зазорного,
в том, что нас не сразило пулями.
Выше шли свинцовые вееры.
Мы в отцов и в победу верили…
Как ты нынче живёшь, поколение
Предвоенного урождения?
О проекте
О подписке