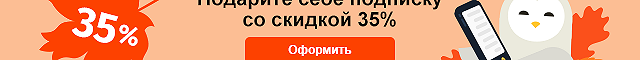
Сон? Он, голый, бесстыдно застыл на бойком месте в центре оживлённого, до мелочей знакомого, но – престранного перекрёстка: неприкосновенный план великого города зачем-то разрезали по оси главной улицы, по оси Невского, по белой разделительной, извёсткой по асфальту прочерченной полосе, и сдвинули – вот и долгожданный сдвиг, вот?! – взаимно две продольные половинки проспекта, поставив Садовую на место Владимирского, в створ Литейного, с Фонтанкой-то ничего не случилось, потекла чудесно в разные стороны – одним концом в Надеждинскую (против течения? Цирк!), другим – в Перинную. А Мойка?! Как теперь будут плавать экскурсионные катера? Но пока он стоит голый в центре удивительного перекрёстка, прикрывая среднестатический срам рукой, переступает с ноги на ногу на круглой тумбочке (милиционера-регулировщика?), ощущая ступнёй рифлённый вафелькой чугун, будто стоит на вспученной слегка крышке канализационного люка. Мимо туда-сюда снуёт личный и общественный транспорт, а он – на островке безопасности, никому не мешает, и никому дела до него нет, горожане с напускной важностью куда-то спешат, а он стоит у всех на виду, нагой, без определённых занятий, топчется на (лобном?) месте – ну да, куда же ещё, если не на Невский, тунеядцу податься? – мается, руки не к чему приложить; но на него смотрят многие – не задёрнутые шторами глаза-окна? Да, вызывающе лорнируют, обстреливают взглядами, издевательски хихикают спрятавшиеся за портьерами (или сплющившие носы о стёкла) зрители-невидимки. И он сам себя, раздетого, посиневшего на ветру, видит во многих ракурсах сразу, суммирует все точки зрения, хочется только прикрыться, неудобно всё же стоять голым всем на потеху, и срам катастрофически быстро растёт – радоваться или печалиться по поводу уникальной потенции? Мужчины смотрят с завистливым негодованием, на лицах дам – агрессивное восхищение; сколько их, воспылавших, делают вид, что озабочены штурмом Гостиного двора, где выкинули дефицитный товар, или расположенного напротив (точнее, по диагонали), на углу Литейного, парфюмерного магазинчика, известного как «ТеЖе»? А транспортные потоки с четырёх сторон на него несутся, совсем близко – смрадный раскалённый радиатор тупорылого самосвала, и такие же слева, справа. Обернулся – сзади такой же прёт. Изрыгают грохот и газ и давят колёсами свежие кучи конского навоза, вонючее месиво. Откуда этакое на Невском? А-а-а, половинки-то Невского взаимно сдвинулись, и клодтовские кони оскандалились, этих двух скакунов разлучили с другой парой, той, что напротив, потащили куда-то с такого привычного для них места, с перепугу с кем не бывает? И тут крышка люка медленно пошла вниз и – не пошевельнуться. Он вместе с ней, крышкой, опускается, как гроб в крематории, и никаких музыкальных эмоций, чад только и грохот, одно желание – зажмуриться, зажать нос, заткнуть уши, лишиться нервных окончаний, а он ещё гадает (будто можно выбирать), что лучше – опускаться в канализационный колодец или пусть машины раздавят?
Так вверх или вниз идёт тумба? Опускаясь-поднимаясь, подумал о конфузе неожиданной встречи, и, как по заказу, к нему направилась смешная фигурка в больших очках на маленьком носике. Обогнув навозную кучу, которую весело грабили воробьи, плюгавенький человечек втиснулся между радиаторами авто, пропищал: «Если не ошибаюсь, Илья ээ-э…» – «Сергеевич», – с отвращением подсказал Соснин, разглядывая тёмно-синюю в полосочку пару, лазурную сорочку под тусклым, в горошек, галстуком и торчащие из-под коротких брючек носки цвета умирающего заката. «Вот именно, Илья Сергеевич, рад видеть в полном здравии и отличной форме. Чем заняты? Опускаетесь? Хе-хе, годы идут, росточек поубавился, но вы ещё держитесь молодцом! Почему только вы на главной нашей перспективе, на многолюднейшем из проспектов, простите, голый?! Ну-у, допустим, презрев приличия, облегчаете душу сеансом саморазоблачения, пусть так, пусть так. А что новенького творите? – щекотливая ситуация не смущала его, напротив, располагала к болтовне с пустыми любезностями. – Заглянули бы, голубчик, на кафедру, архитектурная теория засыхает без соков практики, – отцепился левой рукой от воображаемой пуговицы и исподтишка, будто поправляя пиджачок, почесал ягодицу, а правую руку сунул в карман, откуда доносились противные щелчки пальцев (по портативному микрофону), имитирующие звук кастаньет. – Знаете ли, когда приближаешься в Вероне к знаменитой наклонной башне, ээ-э, а в Пизе замираешь перед увитым розами балконом Джульетты, то… – продолжил изложение итальянских сказок. И, переходя на доверительный шепот, защекотал ухо несвежим дыханием: – Это между нами, тет-а-тет, как любят говорить англичане, но, я, дружочек, не склонен ссылаться в положительном смысле на зарубежные образцы, много там неразберихи, путаницы, никому не нужных заумностей, а у нас, знаете ли, и свои есть памятники, торжественные и строгие. Улетать за опытом чужих ошибок и нежданными уличными впечатлениями никуда не надо, всё под боком у нас, жаль только, что мы с вами на углу Литейного, до Воронихинской колоннады далековато, хотя нет же… Феноменально! Это ведь ещё и угол Садовой, отсюда куда ближе до…»
И вдруг – похабная ухмылка за резко приблизившимся под прикрытием отвлекающей болтовни ветровым стеклом (лак? Нет, стекло!) Они, они, все четверо, перекошенные мстительными гримасами, с четырёх сторон подъезжают! Каждый вцепился в руль (где прятали водительские права, под скатертью?), мерзкие лысые болванки голов, гадливо извиваются черви губ, лязгают зубы, у одного десна свисает, как отстегнувшаяся подвязка… Бежали из картины в автокабины, несутся на него, ясно, кто их нанял, почерк органов: автомобильная катастрофа – и концы в воду… Опускается он всё-таки или нет? Нельзя ли побыстрее? Сдавленный в тисках радиаторов утратил ориентацию (важный сектор из мозга вырезали?). Что требовать от непослушного и опустевшего (душа в пятках) тела? И что он может сделать? Лягнуть босой ногой шину в навозной жиже? Пачкаться неохота. Плюнуть в ветровое стекло? Так ветер назад отнесёт. Оцарапать окрылок? И что он им, лысым болванам, дурного сделал? Они и раньше держали камни за пазухами… Боже, как подкрасить пакостные омертвевшие подобия лиц? И тут у него, голого, обнаружилась (как у кенгуру) сумочка на животе, достал розовое стеклышко от очков – нашёл недавно в старом пиджаке, откуда взялось, никак не мог вспомнить, – посмотрел сквозь стёклышко, и отлегло – румяные, люди как люди, не так всё страшно, ну наехали, попугали малость, да и за что им его наказывать? В картинное зеркало запрыгивал? Какая мелочь… Кстати, где зеркальца, которые они сжимали в скрюченных пальцах? И куда, господа хорошие, подевался единый мир? Раскололся на тысячи отражений? Разве – саднящий вибратор будильника! – одного мира со всеми его противоречиями нам мало?
Подозрительно зачастивший туда, за железный кордон, поэт читает свои стихи там, играет, напрягая голос, на нервах: «Эту воду в мурашках запруды, это Адмиралтейство и Биржу я уже никогда не забуду и уже никогда не увижу…» Читает «выпускной» (по высшему разрешению?) поэт, гастролируя там, за океаном, а звук пробивается сюда сквозь глушилку. Похороны живых? Погребение прошлого, потеря всего? Никогда, никогда – надоел надрыв, превратили общенациональный и личные комплексы неполноценности в статью дохода: престижно и выгодно? Чепуха, провинциализм души, искалеченное рабством сознание. Отбросить сомнения, скинуть розовые очки – осточертело томное, томительное, утомительное любование прошлым, пора смотреть вперёд, налаживать новую жизнь (№ 2?) легко, весело, беззаботно (беззаботности поучиться у Леры), целеустремленно (как Лина), что было – то прошло, сладкий дымок отечества растаял в старых добрых временах (когда они были?), взлететь бы, и – адьё, петербургские, подмявшие явь сновидения, однако… сны на пятницу – вещие, сегодня пятница… Влип!!! Что-то случится… Белые ночи, медлительные каналы, проколовшие вату шпили, адьё… Мысль маниакально закольцовывалась, да-да, у меня ещё есть адреса, по которым найду… затягивается прощание, озноб на разваливающемся фоне (как с Кирой?), однако… Почему – никогда? Поживём – увидим… Или – или? Мне говорят, что надо уезжать. Да-да, благодарю. Я собираюсь. Да-да. Я понимаю. Провожать не следует. Да, я не потеряюсь.
Время торопит, сколько ещё сохранится просвет в занавесе… Надо бы успеть – брысь, только чёрной кошки не хватало ему для полного счастья, – а что если задвигать начнут занавес и его-то как раз и защемят? Хотя не в нём дело, в принципе. Он убежит в царство свободы, а ущербный след несвободы за ним потянется, и как ни уговаривай себя – не вернуться. Или здесь, или там, уедешь – желания перевернутся, снова возникнет та же дилемма, хотя «здесь» и «там» поменяются местами; есть города, в которые нет возврата: тот случай. Смыться? Подчинившись мании преследования, позорно бежать, якобы спасая – от кого? Кто ему угрожает? – никому не нужную шкуру? Когда-то спасались от чекистской пули в затылок, а теперь ради чего? Джинсового комплекта, бьюика, холёной лужайки патио? Ах да, свобода! Снимать шипучкой потребительства изжогу прошлого, лишь изредка отвлекаясь не без злорадства: как, не поднесён ещё факел к сложенной безмолвствующим народом поленнице? Ох-хо-хо: не всё то золото, что блестит; там хорошо, где нас нет; что ещё? Ну и память… Остеклив коридоры власти, демократия не только выставила напоказ прессе и телевидению всегда малопривлекательную технологию управления, но и обрекла политиков на хроническую клаустрофобию: боятся подойти к окнам и посмотреть – что же творится? Ну да, разгул надличностных сил: век средств. И будто там не душат обманной риторикой, массовыми психозами и общенациональными мифами, соблазнами истеблишмента, дремучестью среднего класса… А лохматые охламоны (с автоматами), вскормленные контркультурой? А взрывы, похищения, левацкие призывы к экспроприации и уравниловке? Не только мы их, но и они нас догоняют-перегоняют в одержимости глупостью, лезут на рожон, словно не прочь попробовать смоделированные и испечённые здесь социальные коврижки. Что их-то, там, вынуждает бежать по этому кругу? Боязнь ожирения? Мода на спортивную фигуру?
А спутники кто? И зачем толкаться (тем паче с видом постороннего) на рынке коммерческих идей? Драма эмиграции (когда-то жизнь была на кону!) теперь – по закону повторения – всё чаще вырождается в фарс. Один тип (далеко не худший вариант: обаятельный мошенник) вывез беременную сиамскую кошку – есть, оказывается, и там дефицит! – какая-то шустрая голливудская шлюха (повстречались на Капри), не задумываясь, предложила ему в обмен подаренный одним из знаменитых любовников «Форд» выпуска 1911 года с невоспроизводимо противным клаксоном, кваканье которого было главным предметом зависти соседей по Беверли-Хиллз. Он, однако (пройдоха!), благоразумно отказался, дождался пока сиамка родила, на радостях, правда, наделал глупостей – купил четыре дублёнки. Тут же опомнился, взял себя в руки, вживили ему в башку за колоссальные деньги чудесный электрод с оксфордским произношением. Он мгновенно всех, кто с ним общался, очаровал, стал осмотрительно и везуче играть на бирже, всех доверчивых обыграл, вышел в свет (полусвет?), собрался даже куда-то баллотироваться (в сенат штата?), понял, что перебрал, под благовидным предлогом снял свою кандидатуру, не забыв, впрочем, завести вблизи одной из вилл премилую, открытую по воскресеньям для осмотра кошачью ферму с домиками в виде симпатичных мышек с мышатами – трогательный символ начала головокружительного преуспевания, единственным (и кажущимся) сбоем в котором был наделавший много шума (и в итоге ставший прекрасной, осыпавшей золотым дождём рекламой) набег на бело-коричневое скопище голубоглазых кошечек семьи нильских аллигаторов – они проживали неподалёку, на процветавшем многопрофильном ранчо, и хозяин, разрываясь между военно-ракетным и кинобизнесом, очевидно, не уследил за тем, достаточно ли рационален рацион подопечных ему рептилий… Сколько историй, легенд, баек, принесённых почтой, а вот суровая, но сваливающаяся в анекдот реальность: факты, рассказы, эпизоды – наполняются короба листьями, взять хотя бы вчерашнюю сценку в обувной мастерской, так и просится в записную книжку:
– Почему не поставили набойку?
– На такой тонкий каблук мы не можем.
– Но Фима же мог!
– Да, но Фимы теперь нет.
Ну, Фима отправился на поиски счастья, и ладно, гуд бай, там башмаков, дожидающихся виртуозных набоек, много больше, а ему-то чего ради в тот изобильный рай улетать? И остановившись, чтобы завязать шнурок ботинка – ну чем, чем поможет ему перемещение в международном пространстве? – завязал… Разве мера счастья определяется (экономической) географией? Предположим, наелся бананов и апельсинов, окреп, витамины круглый год, ботинки больше не протекают (пошевелил пальцами во влажном носке), испытание сытостью выдержал, однако душу никто ещё не обновлял и не заменял, останется до конца дней, с нею жить. Но как жить там – без культурных корней, питательного бульона общения? И ничего толком не сказать, не высказать, пока язык, точно слепой щенок, беспомощно ищет пересохшие альвеолы. Да и здесь страхи относительно ближайшего будущего явно преувеличены. Пик подавления – позади, у бровастого вождя вываливается челюсть, а аппарат повязан: валютные счета, сыновья на африканской охоте, важные аппаратчики зависят уже от этого давно опороченного западного образа жизни, не они – так их жёны, дети, внуки. На кой им крайние меры? И – террор? Наивные риторические экстраполяции? В истории такое по заказу не повторяется, ха-ха, не обязательно отмечать рубеж тысячелетий массовым кровопусканием. Страхи, предчувствия, вещие сны. Чепуха! Онанирующие в похотливом ожидании конца света политкарлики-предсказатели, гальванизация гей-славян, повернувшихся плохо прикрытым задом к Западу, чтобы встретить китайско-мусульманскую орду в новых косоворотках? Ха-ха-ха. Дело душит бюрократическая волокита? Вот и славно, не хватало ещё, чтобы глупые решения исполнялись, совсем бы стало невмоготу. Если что и подогревает надежды на относительное спокойствие, так это бездействие. Подождём, авось обойдётся. Гнусноватая действительность развитого социализма? Трагическое несовпадение исторических циклов, абсурд в ранге политики и социальной организованности, замедленный, но фатальный ритм катастроф, словно для Петербурга-Ленинграда – столетний шаг наводнений? Трудно дышать? Дефицит кислородных подушек? Однако не в самолёт надо, зажмурившись, залезать, а в себя заглянуть, не хватит ли пенять на внешние (исторические?) гнусные обстоятельства? Пассивность, нытьё, жалобы на скучную попойку временщиков – пустое всё. Теснения духа – благо (вот дурак!), судьба, миссия и спасение (совсем спятил!), мазохистское, конечно, но – наслаждение. Открывать Америку? Нет, избавьте! Не рыпаться, довериться изводящему и вдохновляющему закону: одной надеждой меньше стало, одною песней больше будет. И прекрасно! Не вмазываться в общий обоз, не чужой язык запоздало учить, а перевести накопленную энергию, желания, странные (очень) и смутные идеи на бумагу – и вперёд, взяв в сообщники тоску (мировую скорбь?) и благодатную удушающую атмосферу второсортной эпохи. Героика, эпос и прочая громоздкая тягомотина подождут переломных (и постпереломных) лет, а пока – пустоватое безвременье канунов, наполненное сладковатым запашком гнили и гари, пространство художественной вязи, невнятности, жанровой сумятицы: ищи. И зачем улетать? Экстенсивный разброс желаний, напор географических впечатлений – не обязательно благо. Мечущийся между корридой, охотой, рыбной ловлей, боксёрскими матчами и гражданскими войнами быстро исчерпывал в этой гонке «участия» даже тематические ресурсы, терял популярность вопреки неуёмному обновлению жизненных ситуаций, которые порождали иногда проблемный, но чаще – отвлекающий шум (интересная мысль!). Привязанный же к провинции почти безвыездно, в парилке южного штата, ежечасно, ежедневно, ежегодно смотрящий на один и тот же дом, газон, дерево, багажник торчащей из гаража автомашины и в этом малом, бесконечно интересном, реальном и воображаемом, главное – собственном космосе упрямо постигал самодвижение жизни (очень интересная мысль!). И не ждать, отбросить робость, замахнуться, а…
Оттолкнувшись от чего-нибудь малозначительного (ничего за душой, кроме листка автобиографии), собрать роман – разностильный и цельный, текучий, но жёстко выстроенный, в центре коего мается в единоборстве с собой (до полного самоисчерпания?) какой-нибудь престранный тип; вывести-выписать, предположим, особый вариант подпольного парадоксалиста, лишённого радостей безыскусной жизни, тоскующего по ним, истязаемого демонами, неврозами, депрессивными стрессами и прочей ультрасовременной нечистью, но движимого гипертрофированной впечатлительностью, которую умело прячет под маской флегматичного благоразумия. Враждебный любой идеологии, испытывающий отвращение к жестокости повседневности, суицидально вынашивающей революции, – индивид такого рода пытается справиться лишь с бременем собственной судьбы, а сил у него всё меньше, и порой кажется ему, что их не хватит даже на то, чтобы быть в худом мире с самим собой. Его сознание – под током, искрит, бросая внутреннюю жизнь из бездны в бездну. С ним ничего особенного не происходит, однако именно это «ничего» и становится смутной, но сдавливающей с разных сторон угрозой.
Пока сожаления и надежды, желания и сомнения раскручивают воображение, никакая реальность не создаётся – за неё лишь принимаются собственные терзания, а квазитворчество становится формой самосозерцания. Даже выявление теневых сторон личности не исключает упоения своим отражением как целостностью с очевидным преобладанием героических чёрточек. И оказывается, что он сам двусмыслен, и вновь обретённый им мир тоже двусмыслен, и всякий предмет, едва с ним начинает оперировать заряженное самоотрицанием, склонное к юродству сознание, дробится – за обыденностью обнаруживается нечто более существенное, вневременное, наделяемое символикой, обратной стороной, которая подчас мнится более важной, чем лицевая. Стараясь вывернуть наизнанку мир, он натыкается на причуды своего внутреннего устройства, не может их точно выявить, выразить, тяготится абстрактностью переполняющих его устремлений, задумывается о спасительной многозначности искусства, и здесъ-то самое время подсунуть ему перо и бумагу, чтобы посмотреть, во что воплотятся блуждания чувств и мыслей. Его влечёт чистая, отделившаяся от «жизненных содержаний» форма; длящаяся (не признавая завязки и развязки), самоорганизующаяся, предъявляющая свой, параллельный реальному мир, куда, оказывается, помещён растерянно слоняющийся между громоздящимися проблемами герой – незадачливый романист; да-да, ещё не найден игровой ход, но циркулем замысла уже описан заколдованный круг…
Вот задача: перевести никому не нужные пространственные идеи в слова, тоже никому не нужные, но для него – важные, соединённые в осязаемый, как бы сделанный своими руками предмет: вот он. Писать, а не ждать, если, конечно, есть что сказать. И тогда всё поменяется. Лина права по-женски, для себя, у нее-то и правда новая жизнь выдастся, как платье, по плечу… дальше забыл, а у него – своя цель. И незачем покупать и складывать чемоданы, проходить таможню, рвать, рвать. Надо – оставаться, всё вытерпеть, вынести, испить до конца. Молодец, дух захватывает от благородства и чистых помыслов. И конечно, писать – для себя, контакт с читателем, очереди за автографами, пресса, рецензии – всё это унизительно, противоестественно, точно быть понятым на обыске в своей же квартире; хотя интересно, как восприняли бы… На левом фланге отечественной словесности в нерешительности-подозрительности, с этаким прищуром, присматриваются, на правом, распираемом патриотизмом, издевательски гнусавят в бороды: милости просим-с, отведав хлеб-соль, в русскую литературу-с, заждались-с, – перепрыгнув лужу, шёл дальше. Сколько ждать? И так был длинный инкубационный период, пора, художник, решайся! Он сможет, конечно, сможет, тот же мовизм до удивления прост, хотя сам переделкинский мэтр мовизма, (какой, однако, взлёт на старости лет!) куда как сложен, уникальный кентавр: грудь – Героя социалистического труда, круп – гонкуровского лаурета. Итак, несколько недель отпуска, плохая погода у моря, тогда и начинать… И вспомнил, как на одной из асфальтированных, тянущихся между глухими тёмно-зелёными заборами аллей Переделкина повстречался с ведущим на поводке карликового черного пуделя (Кубик? Какая прелесть! Что он обнюхивает в дренажной канаве?) высоким, сухим, чуть сутулым стариком в клетчатом серо-коричневом пиджаке со шлицей, коричневом (виргинской шерсти) свитере, вельветовых, неопределённого цвета штанах и плоской, как масляничный блин, замшевой кепочке. Старик безразлично скользнул пресыщенным достатком и славой взглядом – мало ли непризнанных гениев приезжает подышать воздухом писательского питомника? Заносило – пора, второсортная эпоха торопит, а никто не шевелится, поддались умиротворяющей скуке; маститые, с повадками усталых вышибал, польщённые собственными успехами капитулировали перед реальностью; начинающие задиры, одержимые, смелые, похоже, поизвелись; но кто-то же должен переводить фальшь жизни в правду искусства…
Даже устойчивость, писал кто-то из умных людей, не что иное, как ослабленное и замедленное качание.
Между крайностями? Спрашивал, заранее зная ответ. «И жизнь, качнувшись вправо, качнется влево», – бормотал, шагая, осваивая образ символически совместившей правое и левое амплитуды.
И без пустозвонства! Поддел ногой консервную банку. Летом, пусть ненадолго, – на Куршскую косу, вдохновиться ветреной песнью дюны и – писать, ну, может быть, ещё не писать, а обдумать сначала хотя бы то, что так теребит, саднит… Да, подождать, выждать, наполниться ожиданием, а осенью – на Пицунду и – писать.
О проекте
О подписке