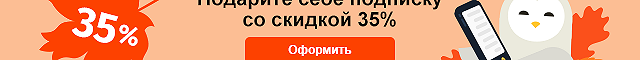
– Тициан, увидевший впервые во Палаццо Дожей «Похищение Европы», сам Тициан, князь живописи и живописцев, такой высокомерный, такой ревнивый к успехам других художников, когда повстречал Веронезе на площади, у порталов Сан-Марко, обнял его… «Что-то, – подумал, заворочавшись, Германтов, – напутал Махов, если и обнял тогда Тициан Веронезе, то за роспись плафона в библиотеке Сансовино; ладно, стоит ли теперь придираться».
Так – сам Тициан увидел, повстречал, обнял.
А я…
«Так вот, когда я впервые узнал о Веронезе, вот, выходит, когда!» – неожиданно для себя догадался Германтов; так-то, популярный в ренессансные времена мифологический сюжет, многие из великих художников вдохновлялись им, но почему-то Махов выбрал версию Веронезе.
Много раз и подолгу простоявший во Палаццо Дожей, в главной приёмной зале, перед «Похищением Европы», такой многоцветной, такой нежной, теперь, в тревогах спальни своей, он мысленно рассматривал составную чёрно-белую фоторепродукцию на обойном фоне, ни в чём, ну ни в чём решительно по задачам и манере письма не перекликавшуюся, даже если вообразить чёрно-белую репродукцию ту цветной, с огненно-красными грубо-фактурными маховскими холстами, висевшими рядом с ней.
Удивительно! Уже тогда Германтов уловил демонстративную контрастность с тем, что писал сам Махов, и…
От неумения или нежелания Махов писал не так, как его кумир?
Но почему всё-таки Махов выбрал Веронезе из всех прочих, так им ценимых живописцев-венецианцев?
И почему именно веронезевское «Похищение Европы» Махов выделил как исключительную в своём роде картину?
Да, свобода.
И композиционного замысла, и письма.
Перед мысленным взором Германтова выросли два тёмных, уходящих ввысь, куда-то за раму, древесных ствола, хитро – равновесие и динамика – поделивших на три неравные части цельное пространство картины; один из стволов, тот, что справа, – наклонный. Ну да, наклонный ствол – важнейший элемент композиции, её каркаса, без его естественного вполне наклона исчезло бы напряжение внутри холста.
А пространство меж стволами ещё и задаёт перспективу сюжету: царевна на спине быка направляется к берегу моря, вот – чуть дальше – они, царевна и бык, маленькие-маленькие совсем, и плывут уже…
Влекущий вдаль, проглядывающий меж двумя силуэтно-тёмными стволами, меж кружевами листвы мягкий пейзаж – морской берег, синевато-сизые воздушные горы, светлое облачное небо… и – на переднем плане – многофигурная красочность с нарядной финикийской царевной и божественным быком-соблазнителем, смещённая с помощью наклонного ствола властной, но любящей и виртуозной кистью влево.
Да – «самая счастливая картина на свете».
Кто это сказал? Кажется, Генри Джеймс, да, да, влюблённый в Венецию, он там частенько «самую счастливую картину» мог созерцать.
Полёт бессмысленного счастья…
А это кто сказал?
Кто?
* * *
Забавно… давным-давно ещё, внезапно для себя обнаружил сходство между похищаемой любвеобильным Зевсом-быком царевной Европой и Галей Ашрапян: нежный абрис лица, гордый поворот чуть вскинутой златовласой головы… И такие же, как у царевны, прозрачные бусины вокруг стройной шеи, и наверняка у Гали под розоватым платьем, чуть прикрытым свисающим с плеч лёгким серебристым платком, такая же, как у античной царевны, налитая и упругая грудь… И такая же плоская перламутровая пудреница, которую незаметно для гостей – но не для Германтова! – достала Галя, чтобы, откинув крышечку, поглядеться в зеркальце, вполне могла бы быть и у той разодетой в атлас и складчатые шелка царевны. Он влюблялся раньше в маму, в Олю Лебзак, и ещё как влюблялся, когда Оля, играя цыганку, хрипловатым голосом пела, а тут… Хохот, тосты и чоканья, еле заметное копошение-колыхание под потолком заждавшихся вольного полёта воздушных шаров и – не какая-то шальная мысль, не наплыв внезапных, самого пугающих, но быстро растворяющихся желаний, а приступ страсти и сумасбродства. На одной из вечеринок у Сиверского, на той, да-да, как раз на той, где спорили до срыва голосов, надо ли, не надо сносить инородный азиатский храм Спаса на Крови, и где Сперанский прикладывал к оголённой своей коленке роговые очки, захотелось Германтову, насмотревшемуся у Махова на репродукцию «счастливой картины», опьяневшему от красоты Гали и жалости к ней, порезавшей, наверное, и потому забинтовавшей палец, похитить Галю, а ведь за ней, и впрямь неотразимой в то время – если бы вдруг такое узнал тогда, то не поверил бы, но и не поверив обязательно бы умер от ревности! – не без успеха ухаживали сильные сего архитектурного мира, самые влиятельные, самые видные зодчие-женолюбы в обеих столицах, – Буров, Нешердяев, Каменский… Он, однако, ничего компрометирующего прекрасную даму не знал, да и не мог знать по малости лет, и что, скажите, невероятного было в том, что там же, на вечеринке, ему, потерявшему голову и воспылавшему ярче, чем все маховские холсты вместе взятые, приспичило, не медля, похитить Галю? Но не понимал он, ибо потерял голову, как именно сможет её похитить, как и чем таким уж исключительным в себе сможет он её соблазнить, и невдомёк ему было, куда, за какое море прекрасную даму-пленницу он, взвалив на спину добычу, должен был увезти? Да и не обладал он нахрапистой бычьей силой, а спортивная Галя, теннисистка из сборной команды, была вовсе не невесомой…
Действительно забавно. На душе у Германтова вроде бы стало легче, он даже испытал прилив сил, желаний.
Тени отступали?
Только что сгущавшаяся тревога уже рассасывалась?
* * *
Привет, Хичкок, непревзойдённо изощрённый конструктор художественных тревог, проливавшихся на нас в затхлой темени кинозалов из твоих целлулоидных кадров, привет, старый друг!
Саспенс, хичкоковский саспенс, заполнявший только что спальню, по сути заливал и холсты Джорджоне, и вдруг – после Джорджоне – взлёт и полёт… Полёт бессмысленного венецианского счастья?
Германтов услышал возбуждающе тревожный, за все нервы сразу дёргающий крик чаек, увидел их мельтешение над пологими мутно-зелёными волнами и почти безлюдный, под мелким косым дождём, пляж близ Брюгге, полосатый шезлонг и – Лиду… Почему так горько вспоминать сейчас Лиду, что же такое могло с ней случиться, что так сейчас, спустя столько лет, сжалось сердце? И почему вдруг холод такой сковал, внутренний холод? Жива ли она? Упущенный шанс воспринимается сейчас как упущенная целиком жизнь, бездарно упущенная; всё на свете – снова и снова себе втолковывал, – все места-времена и все-все события, прошлые и грядущие, все встречи-расставания тайно связаны-перевязаны. Но как больное воображение перенесло Лиду на осенне-пустынный бельгийский пляж с Рижского взморья? А как – и чего ради? – он сам многократно переносился из зала Лувра, где висел «Сельский концерт», до сих пор там, в Лувре, подписанный именем Тициана, в советские семидесятые годы, на Кирочную улицу, в забитый возбуждённой интеллигентской публикой кинотеатр «Спартак», в давно съеденную древесным жучком, молью и итоговым постперестроечным пожаром – «плюшевую утробу», а оттуда, из несгоревшего ещё «Спартака», – в туманно-солнечный Сан-Франциско, к старенькому побелённому маяку у моста Золотые ворота, и – сразу – в живописный, затопленный зноем, похожий на театральную декорацию в колониальном стиле городок к югу от Сан-Франциско, в Сан-Хуан-Батиста, к испанскому аббатству с деревянной Мадонной над оштукатуренным оплывшим порталом, – к аббатству, вдохновившему Хичкока на финальные кадры «Головокружения»? О, когда Германтов окунал разгадываемое им произведение далёкого прошлого в современность, он не прочь был сделать шаг навстречу мировому кинематографу… Всё ещё находясь в беспокойном промежутке меж сном и явью, Германтов уже мысленно перечитывал своё давнее, дерзкое – кто-то из добрейших французов припечатал: хулиганское, – много шума наделавшее эссе «Джорджоне и Хичкок»; да уж, эссе на триста с лишним страниц, с неожиданными поворотами сюжета и сложной фабулой, скорее – роман, повитухой коего и сделалась не подозревавшая о том Лида; и впрямь – «искусствоведческий роман». Да, заклеймили хулигана: в «Нувель обсерватор», дали, помнится, убийственный отзыв. А какой грязью забросали его со страниц «Арт-Пресс»? Зато в миланской газете распустили сладковатые слюни, написали про «интеллектуально-неожиданный костюмированный роман-эссе о ключевой, но загадочной фигуре венецианской живописи конца пятнадцатого и начала шестнадцатого века, сочинённый на съёмочной площадке Хичкока». И совсем уж неудивительно, что в кругу отечественных, закомплексованных германтовских коллег, вечно недовольных им и его заграничными успехами, назвали тот роман-эссе с мемуарными откровенностями, переведённый на главные европейские языки, награждённый в Италии национальной премией, «модной профанацией», даже – «утончённой вульгаризацией». И, само собой, коллективное письмо-донос с патриотичным душком появилось, где потребовали «защитить наше искусствоведение от разгула постмодернизма»; особенно трогательным было словечко «наше». Сознание многих необратимо отравили идеологические советские консерванты: книгу издали в Италии и во Франции, в Италии – расхвалили, даже дифирамбы пропели, во Франции – в пух и прах разругали, но в родном-то отечестве он, удостоенный заграничного внимания, воспринимался как соискатель «тридцати серебреников», едва ли не предводитель «пятой колонны». Да-а, предводитель… без колонны. Да, шум в псевдонаучных и околохудожественных кругах обеих столиц поднялся немалый, книгу благодаря пересудам в сети и прессе бойко раскупали на осеннем Салоне «интеллектуальной литературы»; как водится, кто-то – думающее меньшинство? – зауважал Германтова, кто-то запрезирал…
Между тем ленты Хичкока лишь предлагали художественную аналогию, а объяснение самой тревоги, запечатлённой кистью Джорджоне, точнее, объяснение её, тревоги, природы, возможно, было…
– Юра, всё гениальное просто, – кивнёт Штример, обжигая Германтова доверчиво-насмешливым взглядом; вот и Штримера нет уже, жаль.
– Как вы вникали в мир мыслей и чувств Джорджоне? – допытывалась пёстрая, с чёрным хохолком, птичка на пресс-конференции в Болонье.
– Упаси бог, я не вникал и не пытался вникать, как-никак в Лету утекло пятьсот лет…Я сам, понадеявшись на своё воображение, думал и чувствовал; я просто рассматривал стародавнюю живопись из нашего времени.
– Не заметили ли вы в «Грозе» масонской символики?
– Не заметил.
– Не объяснимы ли тревоги Джорджоне тем, что именно тогда, когда писал он «Спящую Венеру» или – как вы доказываете – «Сельский концерт», неприятельские войска вторглись во владения Венеции, ландскнехты разграбили его родной город, Кастельфранко?
– Применительно к Джорджоне это было бы прямолинейное объяснение.
– Как вам легенда, согласно которой отрубленная голова Олоферна у ног джорджониевской Юдифи – автопортрет?
– Забавная легенда, тем более забавная, что Юдифь, вероятно, писалась с возлюбленной Джорджоне, куртизанки Чечилии.
– Разве вы, рассматривая стародавнюю живопись из нашего времени, не навязываете Джорджоне свои взгляды, идеи и ощущения?
– Ничуть; если эти идеи и ощущения возникли у меня при встрече с полотнами Джорджоне, то и значит, что я эти идеи и ощущения «добыл» в холстах, я – лишь улавливатель и коммуникатор.
– И всё-таки удивительно! – ещё один голос сомнений. – Вы себе верите больше, чем Джорджоне? Своим фантазиям, если не сказать – сумасбродствам, вы подчиняете гениальную его кисть?
– Ничего удивительного! Джорджоне, как и любой художник, не знал, да и не мог знать, что он пишет при всех своих внутренних позывах и планах-намерениях, направляющих его кисть; художник, когда пишет, впадает в транс и превращается в бессознательное существо; повторяю, я – не больше, чем улавливатель и коммуникатор.
– И что же, если отвлечься от идей-фантазий и ощущений, вы хотите высмотреть-разгадать в холстах Джорджоне?
– Резко индивидуальный код.
– Код?!
– Да, код единственной в своём роде художнической судьбы: судьба самого Джорджоне определила атмосферу его холстов.
Giorgione е Hitchcock – как не вспомнить? Он задержался тогда в Болонье, сделал несколько выездов в разные стороны… Какой яркий, солнечный был январь! В городах – нереальное восхитительное безлюдье; редкие прохожие в красно-кирпичном Урбино, под синим небом; сонная оцепенелость Римини: изгнавшая прихожан, будто бы дремлющая церковь Альберти; густо-розовые ставни-жалюзи, задраившие на зиму высокие арочные окна кремового Гранд-Отеля, убраны даже с площадки перед ним такие привычные белые столики уличного кафе; по-зимнему пустынный бескрайний серовато-жёлтый пляж, такой же пустынный, наверное, как и в детские годы Феллини, и зелёная-зелёная, с барашками, Адриатика. И день ли сиял, ночь опускалась? Стоило зажмуриться от яркого солнечного света, как – уже по пути в Равенну – во тьме кромешной над морем, покачиваясь, проносились сказочной россыпью огни огромного многопалубного аморфного корабля, заплывшего в современность из «Амаркорда».
Да, да… код художнической судьбы.
Джорджоне, утончённый и нервный живописец-музыкант, был и интеллектуалом, и интуитивистом. Он предчувствовал скорую свою смерть, он жил – совсем недолго жил – до чумы, которая пресекла его молодую жизнь, он, весёлый, жизнерадостный, словно изначально знал, что сброшен будет в наполненную трупами чумную яму, сброшен в яму и залит известью… Вот и дышат необъяснимой вроде бы тревогой холсты, авторство которых неблагодарные потомки припишут затем другим, куда более расторопным, удачливым… да Тициану, законному прославленному наследнику, и припишут! Да, Тициану, а также Тинторетто, Веронезе и всем благополучно последовавшим за ними пальмам-тьеполо выпало свои плодовито-долгие художнические жизни прожить после той чумы, а до следующей большой чумы, аж до 1576 года, у них было ещё столько времени… После той чумы, унёсшей Джорджоне, воспарили…
* * *
Впрочем, сейчас Германтова занимал один Веронезе.
Веронезе писал счастье? И – сам восторг творчества, счастье творчества, выделенные им из тёмных суггестивных основ творения? Разводил на палитре краски, брал кисть и – писал счастье? Раз за разом, собравшись в Мазер, становился в последние дни и ночи Германтов за спиной Веронезе, жизнерадостного дарителя счастья, и будто бы не только финикийскую царевну, но и его, Германтова, пухлявые эроты, помахивая крылышками, игриво осыпали райскими яблочками; стоял за спиной Веронезе и следил за смешением лёгких мазков, растяжкой цветовых гамм, выбором оттенков бирюзы и лазури; а какое богатство оттенков розового: оттенки словно мерцали в воздушно-подвижном ворохе розовых лепестков, подхватываемых ветром… Счастье выделялось из всех пор внутренних трагедий и драм, из тьмы и света, чтобы стать зримым. Веронезе, единственный, умел писать не мифологический сюжет сам по себе, не панорамную историю, а в чистом виде то, что зримо не существует: фантасмагорическое и прозрачно-нежное, идиллическое, то, что не умели писать другие?
Не языческое ли у него ощущение и выражение счастья? Ну да, языческое, какое ещё, усмехнулся Германтов своему вопросу, недаром у Веронезе случались неприятности с инквизицией.
«Самая счастливая картина…»
Точнее не скажешь.
Но никак не вспомнить, кто, какой тонко чувствовавший провидец это смог понять и высказать…
И почему-то не вспомнить никак, кто написал об особом таланте божественных венецианцев – таланте счастья?
Неужели сдавала память? Как пели в благословенно застойные брежневские годочки от лица впавшего в маразм генсека? Что-то с памятью моей стало, то, что было не со мной, помню… Надо бы сделать томографию, проверить мозговые сосуды.
Но тут, забеспокоившись, вспомнит он про виллу в Мазере.
И вновь, вновь увидит то, что хотел увидеть.
Может быть, и фрески, заказанные братьями Барбаро, стали зримым воплощением счастья, зримым, по крупицам собранным кистью Веронезе образом земного рая? Ну да, рассматриваешь росписи, а слышишь пение ангелов. Ну да, ну да, Веронезе в привычном порыве счастья расписал виллу… открытие ценой в две копейки.
Может быть, всё может быть; хотя воспринял ли так те фрески, восславившие счастье и затем прославившиеся в веках, но сплошь закрасившие и грубо исказившие его архитектурный замысел, сам Палладио?
О проекте
О подписке