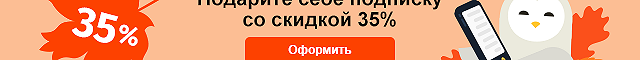
– Гений всем мешает, всех раздражает, он, всегда единственный в своём роде, непрошенный и непредусмотренный, будто бы является вопреки усреднённой всеобщей воле и выкидывает как в искусстве своём, так и в жизни фортель за фортелем. Вот и мне, превозносящей Достоевского за многоглазый поиск высоких и глубоких истин, вроде бы им же озаряемых каким-то высшим безумием, никак он не угодит: ну с какой стати он в зале Дрезденской галереи, заполненной чинными экскурсантами, в ботинках демонстративно на бархатную банкетку залез и нагло долго стоял над всеми? Раскапризничался бородатый ребёнок? Или нагло на банкетку залез, чтобы «Христа в гробу» удобнее было ему одному рассматривать поверх голов презираемых им бюргеров-буржуа? Дикая выходка? Нет, скорее всего специально и демонстративно он над этой публикой вздумал возвыситься, чтобы поизмываться, заодно и немца-служителя, у которого глаза на лоб вылезли, хотел позлить. И можно ли гения пристыдить за такой проступок, ведь гений – заложник своих демонов, понимаешь? Дальше – больше: гений из гениев, а безвольно сходит с ума от игры на деньги и перед дамами сердца, жалко и безвкусно воспламеняясь, если верить его собственному дневнику или дневнику последней жены-стенографистки, почему-то как подкошенный валится на колени, ползает по полу и подолы платьев целует… Это разве не знаки душевной слякоти? Но, – колюче посмотрела на Юру, будто ждала немедленной реакции, – отчего же я, приверженная приличиям и здравомыслию, шпионю за гением, истлевшим давно в могиле: немецкие игорные дома инспектирую, краснея до кончиков ушей от стыда, залезаю в чужие будуары? Я всё думаю – если б он не сгорал от порочной страсти к игре, не целовал мокрые и солёные от его горюче-жалких слёз подолы, может быть, и писал бы хуже? Это для меня всё тот же больной вопрос, который я, пусть сузив и упростив его, задавала по поводу романтичных союзов Брюллова и Самойловой, Левитана и Кувшинниковой, помнишь? Или каждый любовный случай-экстаз – особый и неповторимым образом каждое из любовных умопомрачений на художества с писательствами влияет? И не из-за таких ли вот реальных умопомрачений он в великих романах своих безвкусно так любовь переслащивал? У меня всё это уже не умещается в голове. А ты, Юрочка, представь, сам себе представь, если сумеешь пораскинуть молодыми мозгами и фантазию свою напрячь до предела, кому ещё на всём белом свете выпало бы вздорную инфернальную дамочку так безоглядно, так неистово преследовать в Кёльне, чтобы красы и гордости Кёльна, высоченного исполинского готического собора, хотя поезд почти к входу в собор подвозит, там курьёзнейшим образом не заметить? Что это – многоглазое ослепление? Да и как вообще писал он, доставая высшие смыслы и живейшие картины из глупой и мелкой подозрительности своей, из вздорных приступов бешенства и надуманных обид, из метаний, из мнительности, вспыльчивости и низкого сладострастия? В гении столько всего намешано, столько в нём, прозорливце, и светоносного, и мрачного, гадкого, даже – грязного, он так пугает кричащими своими противоположностями, которые, позволю себе заметить, терзают-корёжат перво-наперво душу самого гения. Читая, к вечным тайнам прикасаясь пугливо, чувствовала, что неизлечимо искорёжен он сам, понимаешь? К всепрощению и любви, к спасению всех гонимых зовёт, а в стыдливом закуте своей широкой души прячет и холит примитивное манихейство? Или пуще того – прикармливает во всечеловеческой и отзывчивой своей душе зверя? Я – не из робкого десятка, но я чую горячее дыхание зверя, слышу рычание, вижу его клыки. Юра, ты следишь за выражением моего лица? Ты не ошибся: светлое чело моё тень накрыла. И знаешь, – вновь с колючим вниманием посмотрела, – чем всерьёз отвращал меня Достоевский? Ненавистью к евреям, глухой и тупой, патологически-необъяснимой какой-то для глубокого писателя ненавистью. Причём отвращение моё питала не только врождённая обида, уже тысячелетия свойственная евреям, которым не устаёт напоминать о ней голос предков, нет, я никогда бы не позволила себе спутать гения с черносотенцем! Нет, он гений, гений – твердила себе. Хотя, между нами говоря, на кое-каких страницах, будто бы специально для разжигания чёрных страстей адресованных своре озлобленных ничтожеств, с черносотенцем трудно было его не спутать! Ум непостижимого гения меня отвращал вдруг своей убогостью, а проницательные глаза гения тотчас же застилались злобною тьмой. И поэтому я, – заулыбалась, – с присущей мне наивностью и бескорыстной пытливостью попыталась как-то сама с собою обсудить больную тему, но в добросовестно-логичных рассуждениях своих, признаюсь, не преуспела, даже на йоту не приблизилась к пониманию. Для Достоевского евреи не народом были, а – поголовно – низким корыстным племенем; он, как и подобало поборнику добра, писал, что своё ли, общее счастье нельзя строить на страдании других, а на глумлении над другими, на отвержении других – можно? Скажи, Юрочка, я похожа на дикарку из презренного племени? Не по причине ли болезненной ненависти, угнездившейся в душевных потёмках, и обрёл злоязычие наш гениальный, всемирно отзывчивый доброхот, многоглазый наш соискатель истины, а христианство самого Достоевского стало каким-то воспалённым, почти безумным? Это ведь всё равно, что Библию надвое разрывать, Ветхий и Новый Заветы стравливать…
* * *
И, озираясь по сторонам, вздыхала:
– Он и Петербург не любил, потому не любил, подозреваю – а есть, верю, есть в подозрении моём изрядная доля истины, – что не ощущал небесного умысла, высокого исторического предназначения и волшебной внутренней сути его; для него Петербург, во всех бедах бедных людей виноватый, похоже, вообще сжался до затхлой коморки процентщицы, до тёмной лестницы, по которой с топором Раскольников поднимался.
* * *
Итак, достигали пустыря, на котором казнили-миловали Достоевского и на котором – точь-в‑точь напротив Адмиралтейства, чья игла поблескивала в далёкой и тёмной, резко сужавшейся перспективе Гороховой, – вырастет впоследствии скромно-коробчатый, без излишеств, ТЮЗ. Левинсон, помнится, скажет, подняв чашу с вином, превратившись в древнего грека и лукаво поглядев на Жука:
– Не знаю, стоило ли строить детский театр на месте, запомнившем публичные казни, но – поздравляю, это высокая честь! Как, Саша, неужели волею счастливого случая удалось вам поставить театр на священной оси башни Адмиралтейства?
И тут обгонял их, пыхтя, крупный мужчина с неподъёмным чемоданом, рюкзаком за спиной и… берёзовым веником.
– Да, – с деланной серьёзностью сообщала Анюта, – куда конь с копытом, туда же и рак с клешнёй, понимаешь? Всем пора в баню, париться… – И вот уже – большое видится на расстоянии, учти, неизменно усмехаясь банальной мудрости, предупреждала на этом приметном месте Анюта, успевая умильно поглядывать на уплывающую по траве изумрудно-зелёную тень, на зарастающую желтизной, будто куриной слепотою, лужайку, на солнечную, переполненную холодным золотом лужу, и, пусть и щурясь от набегов света, всегда вовремя предупреждала – вскоре показывался впереди, слегка, словно в припадке самолюбования собой в зеркале, отступив от Загородного проспекта, чтобы получилась площадь, вокзал…
Подавались чуть влево; свернуть к Витебскому вокзалу называлось в Анютином лексиконе, «сделать крюк».
– Давно, очень давно, на месте вокзала была деревянная полковая церковь семёновцев, её, сначала расположенную поодаль, примерно на углу Можайской, освящали в присутствии императрицы Елизаветы Петровны, а затем перенесли сюда по повелению Екатерины II, но прошли годы, для царскосельской железной дороги понадобился…
Да, мираж.
– Это модерн, понимаешь, модерн? – сказала-спросила Анюта. – А каков decorum… От модерна я всегда в приподнятом настроении, смотрю – и кажется мне, что сама я похорошела…
Впервые услышал надолго затем покорившее его интересы слово: модерн.
– Не понял? Юрочка, ты же на лету привык схватывать, а сейчас – не понял? Исполняю на бис…
От повторения ясности не прибавилось; я, наверное, тупица, – пристыжено спрашивал себя, – что за модерн, что за decorum, с чем едят?
– Ты думай, запоминай и думай, – подбадривала Анюта, – в школе тебе всё-всё будут правильно-правильно объяснять, в рот класть и разжёвывать за тебя, и заставлять будут сидеть перед экзаменами, согнувшись в три погибели, над тупыми учебниками, но сейчас – учись самостоятельно думать-соображать, – и принималась расхваливать Царскосельский лицей, где с начальных классов к лицеистам относились как к взрослым: преподавание велось по университетской программе.
– Знаешь, Юрочка, о чём я как-то подумала: можно ли ум увидеть? Ну да, увидеть: ведь сказать, что ум острый или глубокий, – это ничего не сказать, а вот если б можно было увидеть… И мне пришло в голову, что умы можно сравнивать с архитектурными стилями. Готический или ренессансный ум, каково? А что скажешь ты про барочный ум? Ловлю отблеск мысли в твоих глазах… – радостно засмеялась.
– А напротив того места, где стояла старая деревянная церковь и где появился потом вокзал, на другой стороне Загородного, вон там, где разрослись деревья, был возведён большой каменный собор в византийском стиле, понимаешь? Но собор тот разрушили большевики-безбожники…
Вокзал – как памятник неожиданно вылупившемуся из лепной скорлупы эклектики, энергичному и утончённому, но умершему молодым стилю?
Можно было подумать, что этот вокзал-памятник – центр мира.
Центр мира, в котором располагался магнит.
Германтов так и думал – к вокзалу подкатывали горбатые такси «Победы», люди торопливо тащили чемоданы, котомки, и из трамваев, едва останавливались, изливались чёрные людские потоки… Всех-всех притягивал вокзал; каким фантастическим благолепием дышал бы этот вокзал, будь он отреставрирован и умыт, а пассажиры – чистыми, достойными этой красоты…
– А в том крыле, закруглённом, – говорила Анюта, – ресторан, когда-то туда утончённые обжоры, гурманы то бишь, съезжались к обеду, перетекавшему в ужин, со всего Петербурга, чтобы налопаться расстегаями, таявшими во рту, студнем с хрящиками, налимьей ухой, жирной-жирной…
У вокзала было два входа; у какой из дверей вокзала, тогда ещё не Витебского, Царскосельского, от сердечного удара замертво упал Анненский?
Такси окатило грязными брызгами.
Один вход был слева, с вечной толчеёй в узких дверях, под башней с часами; у дверей в почётном карауле также стояли старушки-нищенки с гноившимися глазами, и у узких дверей этих неизменно вздыхала Анюта, так как всем нищенкам не могла подать милостыню; тут же шла бесхитростная торговля – анилиновые леденцы на палочках, чёрно-коричневые вязанки сушёных грибов, квашеная капуста, мочёная клюква, брусника… Другой вход, в правом крыле с рестораном, вход широкий, на три двери, судя по всему – главный и торжественный, под дивным куполом, был обычно, подчиняясь советским порядкам-ритуалам, закрыт.
Для нагнетания сакральности?
С удивлением обнаружил вдруг, что ребристый куполок над башней с часами был той же формы, что и большой, главный, вокзальный купол.
Хромоножка Пуля, наводчица Пуля, – в затрёпанном за много лет, испачканном давней извёсткой, навечно задубевшем салопе из тёмно-зелёного протёртого плюша, приобретённом, надо думать, со щедрой скидкой в «универмаге шурум-бурум». Синюшная, желтоглазая, словно навсегда заболевшая желтухой, одутловатая Пуля здесь, Пуля там – имя ли это было, прозвище? Как взбегала она, приволакивая ногу в грубом незашнурованном ботинке, по лестницам, тем узким, слякотным и замызганным; по лестницам в левом, как бы сугубо функциональном крыле вокзала спускались-поднимались приезжавшие-уезжавшие; на этих же лестницах просверливали толпу карманники, на разных площадках, выше-ниже, привычно облокотившись на чугунные перила, что-то показывали на пальцах друг другу колоритные, если не сказать, модные по-своему, босяки с ухарскими ухватками, и – вверх, вверх, к платформам, тащили внушительные мешки с буханками хлеба беспаспортные селяне, дабы подкормить родичей и скотину в тихо припухавших с голодухи колхозах Псковщины и приграничной с Псковщиной Белоруссии. И серолицые, непросыхающе-развязные завсегдатаи-оборванцы – спившиеся окончательно босяки? – с трясущимися руками, лиловыми фингалами и свежими багровыми шрамами, толпившиеся под лестницей, весело, с кривляньями и солёными шуточками-прибауточками, перекрикивались с такими же серолицыми, как сами они, но яркогубыми молодыми женщинами, которые тоже за похабным словом в карман не лезли… И вдруг, как по какому-то бесшумному сигналу или невидимому знаку, лестницы пустели, вокзал затихал, будто бы вымирал, чтобы Анюта могла сосредоточиться на поучительных премудростях святых книг. Но стоило зазеваться на одной из лестниц, когда, задрав голову и всё ещё прислушиваясь к рассказу о божеских наставлениях, Юра, словно во сне, зачарованно рассматривал облезлый свод или профиль карнизной тяги, как вдруг… «Не было печали, так черти накачали», – успевала с веселой обречённостью заворчать Анюта, – как вдруг изо всех проёмов, сразу по всем лестницам могла сверху, с платформ, с животной напористостью и шумом, гамом повалить неукротимая вязкая тёмная толпа с ревущими детьми, рюкзаками, тюками, чемоданами и деревянными котомками, больно-больно подсекавшими ноги, ударявшими в спину.
– У них вши, вши, – панически уже предупреждала Анюта, забывая свои весёлые сетования и, само собой, обрывая перечисление десяти заповедей.
Но поздно, поздно – завшивевшая толпа поглощала, несла, а Анюта, дивясь точности библейских пророчеств, шептала:
– Пиши, Юрочка, пропало, последние стали первыми…
И тут получала она локтем в бок и шептала уже:
– Как бы мне прогулка не вышла боком…
Сверху напирали, толкали-ударяли чемоданами, котомками, и толпа, сдавив со всех сторон, несла вниз, вниз, да так неудержимо несла, что и при желании не получилось бы пересчитать ступени. И только вездесущая Пуля, одна Пуля чувствовала себя в той густой-прегустой толпе, как рыба в вольном течении; как удавалось ей оказываться то здесь, то там? На первом этаже – спасибо пробке у двери – удавалось выбраться из безобразного месива навьюченных тел в смрадный зал ожидания, где Анюта, прошептав: «Тревога отменяется, мы спасены», возвращалась к предыстории, к чуду Синайского откровения, к нёсшимся с небес трубным звукам и громам-молниям, когда евреи, недавние египетские рабы, понурые и жалкие, испуганные, растерянные, поблуждав под водительством Моисея по пустыне, столпившись на восходе солнца у подножия пылающей священной горы, внимали философскому спору пророка Моисея и упрямцев-ангелов, пожелавших, чтобы Тора с десятью заповедями оставалась на небесах. – Но зачем им, ангелам, заповеди на небесах? Ангелы ведь не живут среди язычников и не могут соблазниться служением идолам, понимаешь? Никаких скидок на возраст, никаких… После того как Моисея, одержавшего идейно-практическую победу в споре с ангелами, накрывало облако на вершине горы, Анюта без запинки… Однако, назвав все десять божественных заповедей, принципиальные отличия их от государственных законов, которые, увы, поворачивались, как дышло, Анюта оставляла почему-то на другой раз. А на сей раз Юре, который успел привыкнуть к внезапным переменам в тематике её говорений, предъявлялся перечень достойных незамедлительного прочтения, захватывающих книг.
– Книг на белом свете много, очень много, их всё пишут и пишут, изредка пишут, конечно, таланты и даже гении, но куда чаще – посредственности, бездарности; к концу жизни выясняется, что читать надо немногие из книг. Только те книги, что могут уместиться на одной твоей полке, те, что и великие, и – близкие тебе, понимаешь? Вот, например, «Фауст», я, когда прочла по-немецки, давным-давно ещё…
На сей раз начинала она с Рабле.
– Я до слёз смеялась, до слёз. А знаешь, что есть лучшая музыка? Звон стаканов! Сейчас так сочно, так аппетитно, что облизнуться даже после сытного обеда захочешь, не сочиняют, рецепт утрачен.
Потом сравнивала Гоголя.
– На самом деле ни с кем не сравнимого, понимаешь? Картины и типы, созданные им, ни на что и ни на кого не похожи и поразительны, они невероятно смешны; боялась лопнуть со смеха и тут же чувствовала, что всё печально, ужасно, и от такой неустойчивости своих впечатлений, от двойственной природы самого сочинения, картины и смыслы которого вдруг начинали плыть, дрожать, колебаться, я испытывала что-то вроде морской болезни. Ничего более сложного и густого по содержательной начинке своей я, пожалуй, и не читала: то, думаю, поняла, это – поняла, а через строчку вижу – нет, всё совсем не так. Всё у Гоголя живое-живое, а будто бы – потустороннее, весь мир наш для него был фантасмагорией, понимаешь?
Но несравнимого Гоголя с Данте она лишь в том смысле сравнивала, что Данте в своей величайшей поэме всё задуманное осуществил – написал Ад, Чистилище и Рай, а Гоголь в «Мёртвых душах» своих, тоже в величайшей поэме, тоже, как и у Данте, трёхчастной, если судить по собственному гоголевскому плану, только первую часть, как бы условно-адскую, сочинил, вторую, про чистилище, сжёг, – сжёг на глазах плачущего слуги, а третью часть, райскую, где и сам Чичиков стал бы ангелом, и вовсе отказался писать, почувствовал, видимо, что гениальную первую часть «Мёртвых душ» не дано ему по литературным качествам превзойти, что даже ему, Гоголю, ему, которому только и ведомо было тайное будущее России, не дано написать убедительно рай, возделанный на русской почве; и вскорости в муках умер… Ну никак, никак не мог он дописать на должном – высочайше-небесном – уровне свою книгу и, наверное, от этого умер…
– Несравнимого? – переспросил.
– А как гениев сравнивать, как выбирать из них самых-самых – тараканьи бега устраивать?
Нельзя сравнивать… вздохнул с облегчением.
– И вот ещё почему «Мёртвые души» так и остались без продолжения, – заулыбалась, – потому, возможно, что Гоголь просто-напросто раздумал сообщать нам, куда именно мчится Русь… Я учила в гимназии наизусть, и тебя заставят учить: «Куда несёшься ты, дай ответ… не даёт ответа». Вот и Гоголь свой окончательный ответ бросил в пылающий камин, понимаешь?
Умильно на него посмотрела.
О проекте
О подписке