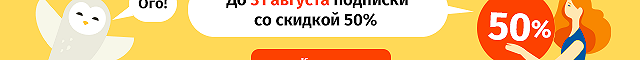
Смерть тоже являлась ему несколько раз в последние месяцы. Со стороны границы все чаще слышались взрывы, причем оказалось, что бывают они разными не только по силе, но и по тону: резкое «бух», сопровождаемое долго затихающим свистом, либо глухое «бам-бам-бам-бам», а иногда довольно редко и почти всегда на закате слышался нарастающий гул, переходящий в рев, и грохало, кажется, совсем поблизости так, что тряслась земля. Иногда, все чаще, появлялись военные самолеты: неожиданно маленькие, игрушечные на вид, они пролетали с надсадным воем, как будто им самим невыносимо было то, чем они вынуждены заниматься, и странно было знать, что внутри каждого из них сидит еще более маленький человечек или два и управляет этой злой таинственной машиной. Самолеты иногда проносились к границе и потом, чем-то напуганные, возвращались обратно, но чаще пролетали вдоль нее, и иногда можно было видеть, как с той стороны в небе быстро вырастают высокие дымные следы, как цветы на болоте: самолеты шарахались в сторону и синхронно уходили, спасаясь от столбов тумана, и тогда из неба снова раздавался гром, как при грозе, хотя никакой грозы и не было.
На берегу Грика давно обустроил себе что-то вроде гнезда: так бы выглядело его укрытие, если бы он был крупной бескрылой нелетающей рассеянной птицей. Под старой ветлой, опустившей свои ветки в воду, словно купальщица, боязливо пробующая температуру подозрительно холодного на вид озера перед тем, как окунуться туда целиком, в землю были вкопаны два пенька: один, пониже, служил Грике креслом, второй – столиком. Но и это еще не всё: для защиты от ветра и дождя был дополнительно сооружен хлипкий на вид – вот-вот развалится! – деревянный навес, затянутый поверху истрепанным куском парниковой пленки, для надежности придавленной большими и малыми камешками, плюс к тому сбоку была устроена особого рода ширмочка от ветра из сплетенных между собою веток. И уже у самой линии воды была вкопана рогулька, чтобы опирать на нее удочку.
Спустившись вниз, Грика тяжело уселся на пень и стал медленно разбирать снасть. Думал он о том, какому количеству неизвестных людей пришлось долго и тяжело работать для него, Грики, и как он бесконечно им всем благодарен. Какие-то шахтеры на Урале спускались в темный забой, сверкая белками на вычерненных лицах и выписывая лучами налобных фонариков зигзаги в кромешной тьме; там, на два этажа выше преисподней, они тяжелыми молотами рушили куски бурого железняка, потом, надрываясь, тащили вагонетками руду наверх, сгружали в гигантские машины, которые везли ее в большой город, на огромный завод, мутные дымы которого заставляли чихать и морщиться ангелов на небесах. Тем временем другие шахтеры, может быть, за тысячу километров оттуда, также в мучениях добывали уголь, глянцевитые груды которого тоже перемещались на тот же завод. Их закладывали в доменную печь, где в мутном пламени, при страшной температуре рождался вдруг жидкий пылающий металл, который разливали по формам, остужали, везли тележками в далекий цех, откуда слышалось непрерывное «бум-бум-бум» (тут Грика вспомнил про ракеты и машинально взглянул на небо, но небо было чистым), – и все это только ради того, чтобы выковать маленький, словно ювелирный, рыболовный крючок. А ведь как трудно было изобрести его, такая, казалось бы, простая вещь: ушко, цевье, острие, бородка, – но ведь если не знаешь, какова его идеальная форма, то как увидеть мысленным взором, каким он должен стать…
Но и это еще не все! Есть леска, про которую Грика просто не знал, откуда она берется и как делается, но были ведь еще и поплавок, и стопорное колечко, и грузило из свинца. Поплавок, допус-тим, в детстве делали из обточенного куска сосновой коры, так что нынешний фабричный не так его изумлял фактом своего существования, как и все прочие вещи, что при случае можно соорудить самостоятельно. Но свинцовое грузило потянуло его мысли вниз: если бы свинец обладал собственным сознанием, ощущал свое предназначение и мог говорить, то счел ли бы он это свое положение удачным? Грика, в общем, был не то чтобы доволен своей судьбой (для человека подобного склада то несостоявшееся, что непрерывно мучит и гнетет горожанина, представляется настолько несущественным, что горевать о нем вроде того, что плакать о состриженных ногтях), но принимал ее с аввакумовским стоицизмом: если на белом свете он необходим, как статист в гигантской пьесе, то кто может сыграть его роль лучше его самого? Так, возвращаясь к грузилу, он предполагал, что, если бы свинцом был он, он выбрал бы именно такое существование: хотя карьера аккумуляторной пластины, может быть, и была бы более почетной, но уж пулей оказаться бы ему точно не хотелось. Оставался еще вариант быть той самой свинцовой краской, что ложится черными словами на белую бумагу, но отчего-то ему помнилось (и совершенно, кстати, справедливо), что из-за вредности ее больше не используют.
Выбрав в баночке червяка поживее (и мысленно отодвинув готовое прорасти зернышко рассуждений о связи пассионарности с биографией), он насадил его на крючок, морщась от необходимости причинять боль хотя бы и такому незатейливому существу. Поплевав на приманку, он сильным плавным движением, неожиданным для такого телепня, точно забросил снасть в небольшое оконце среди озерной травы и аккуратно пристроил удочку на рогульку, после чего, отступив пару шагов, уселся на пенек. Его охватило привычное чувство завершенности: как будто всю вверенную ему часть процедуры он закончил, передавая дальнейшее в руки – кому, высшим силам? – но смешно и неловко было бы их теребить по столь ничтожному поводу. Рыбам? Но тогда получалось, что вроде бы занимаются они с Грикой общим делом, а кончается оно смертью или смертями подельников – выходило глупо и некрасиво.
Он вновь задумался о том, сколько живых сил и незримых усилий сошлись в одной силовой точке нынешней минуты, чтобы составить ее из деталей: эта вода, это небо, греющая его одежда и снаряженная им удочка. Грика чувствовал себя сиротой, которого вдруг осыпали подарками – неизвестные ему люди и звери выстраивались в очередь, чтобы поднести ему хоть скромное, да свое: корова отдала свою шкуру ему на ботинки, сапожник их обтачал, неизвестная дама соткала ситец на исподнее, а другая сострочила невыразимые на швейной машинке, а за ними вставали уже тени поразмытее – тех, кто сучил нити, собирал хлопок, распахивал целину. Весь мир собрался кругом со своими подношениями, ввергнув вдруг бенефициара в горькое чувство: ему совершенно нечем было отдариться. Он не мог понять, за что его полюбили, почему каждый из этих неизвестных ему милых людей, которые казались неизмеримо выше и важнее его самого, потратил на него кто час, а кто и полдня… Уж не принимают ли его за другого? Ах, если бы он был, например, композитором – какую бы музыку он написал для них в знак своей признательности. От переполнивших его чувств он даже промычал несколько тактов, заранее понимая, что ничего путного из этого не выйдет. Но, как будто он своим негромким звуком обрушил окружающую тишину, как неумеха-лыжник страгивает, сам того не желая, лавину на снежном склоне, – где-то за холмом, за Козьей Спинкой, ответил вдруг ему звонкий дребезжащий, все приближавшийся звук.
Грика слышал от соседей, что подобные диковинные штуки теперь прилетают порой со стороны границы, но сам никогда их не видел. Ничего в предшествующем его жизненном опыте не готовило к встрече с таким устройством, которое, несомненно, будучи делом человеческих рук, напоминало при этом немыслимого мутанта, разросшееся до невиданных габаритов злое насекомое. Это было что-то вроде табуретки с короткими ножками, по четырем углам которой виднелось круглое марево от вращающихся лопастей. Двигаясь как будто боком, табуретка с громким жужжанием перевалила через ветлы на той стороне озера и, снизившись, плавно полетела к Грике, повиснув в воздухе в нескольких метрах от него. Она висела, слегка покачиваясь, как бы давая время себя разглядеть. На обращенной к Грике стороне виднелся круглый зрачок, похожий на объектив фотоаппарата, которым еще давным-давно, в прошлой жизни, делали снимки для паспорта – двадцать это было лет назад или тридцать? Под ним, в подбрюшье, покоилось еще что-то круглое, как будто это диковинное существо выращивало в чреве свое потомство. Не зная, как быть, но чувствуя, что нужно что-то сделать, Грика приподнялся со своего пенька, снял картуз и слегка поклонился в сторону табуретки – как сделал бы, предполагая, что перед ним посланец неземной цивилизации, и не желая показаться невежей. Табуретка, почудилось ему, слегка покачалась в ответ, как будто в насмешку, но скорее дружелюбно: впрочем, Грика, сам относившийся к окружающему его миру со снисходительной теплотой, был готов выписать аванс приветливости даже без всяких на то оснований.
Мысли его, впрочем, потекли по новому руслу. А вдруг это, подумал он, и вправду летающая тарелка, которую прислали откуда-то с далекой звезды, – и сейчас она приземлится поблизости, из нее выйдет некое существо и пойдет к нему знакомиться? Очевидно, в таком небольшом воздушном корабле и пассажир должен быть очень маленький, величиной с мышку, так что главное, забеспокоился Грика, на него случайно не наступить. И почему же, продолжал думать он, такая незадача, что для первой встречи цивилизаций парламентером от землян выбрали не какого-нибудь мудреца, или спортсмена, или хотя бы губернатора, или певца, а такого незамысловатого и неготового представительствовать субъекта, как он! Он мысленно перебрал свои знания и умения, поражаясь их тщете, – то, что он не успел забыть после школы, представилось ему настолько скудным и нелепым, что казалось проще провалиться сквозь землю, чем предстать на суд инопланетянина. Может быть, если бы встать на точку зрения этого наблюдателя и оглядеть Грику непредвзятым взглядом, выяснилось бы, что он знает не так уж мало: в деревне не проживешь, не умея обращаться с топором, пилой, лопатой, остями, вилами, иголкой с ниткой; не зная основ агрономии, ботаники, зоопсихологии и прочих прикладных наук. Более того, если бы измерить на каких-нибудь немыслимых весах круг навыков обычного крестьянина и его ровесника, окончившего Гарвард и там же преподающего, может быть, вышло бы, что умения крестьянина если и не обширнее, то уж точно разнообразнее. Но поскольку все они постигались сызмальства, буквально впитывались из воздуха, то и производили впечатление врученных от природы: как смешно было бы китайцу кичиться тем, что, родившись в Сычуане, он в совершенстве владеет местным диалектом, на освоение которого европейцу пришлось бы угробить лет пять ежедневных утомительных занятий.
Встречи цивилизаций не случилось: табуретка, в очередной раз вихнув, улетела прочь, так что Грика вздохнул с облегчением, вернувшись к обычному своему созерцанию, – и обнаружил вдруг, что поплавок его удочки совершенно недвусмысленным образом содрогается раз, другой – и целиком уходит в воду! Мягким, каким-то хищным движением, так не вяжущимся со всем его расхлябанным обликом, он подсек, почувствовал живое, забившееся, сопротивляющееся – и вытащил окуня размером с ладонь. Красота наших рыб, особенно хищных, всегда казалась ему одним из доказательств существования Бога. Не было никакой нужды щуке быть крапчатой, а окуню полосатым; все разговоры про эволюцию и маскировку могли вести люди, сроду не вылезавшие из своих пыльных кабинетов и уж тем более не бывавшие на лесном озере. Напротив, если незаметно подойти к берегу и приглядеться, а еще лучше отплыть немного на плоскодонке, подождать, пока озеро успокоится и посмотреть сквозь водную толщу, легко увидеть, насколько пестрая окраска наших хищников делает их заметными. Можно было бы счесть и эту яркую окраску результатом, так сказать, обратной эволюции – потому что иначе слишком много было бы у щук, судаков и окуней преимуществ и они быстро переловили бы всю нехищную рыбу и сами околели от голода, но вообразить такой природный работающий механизм вне концепции божественного вмешательства, кажется, абсолютно невозможно. Напротив, в дополнительном, каком-то художественном изяществе этой воплощенной чешуйчатой смерти была убедительная правда красоты, которая делала ценной и неслучайной любую принесенную ей жертву.
Окунь, даже вытащенный из воды, был прекрасен. Лежа на крупной Грикиной руке, он топорщил острые иглы спинного плавника, судорожно приоткрывая и захлопывая жаберные крышки. На его от природы суровой морде был написан мрачный стоицизм: понимая умом, что последний свой шанс он упустил (он мог сорваться с крючка в воде, обмотать леску о корягу, в конце концов перекусить ее – такие случаи бывали), окунь все равно делал вид, что дело его не проиграно, хотя максимум, чего он мог добиться, это проткнуть острыми иглами спинного плавника кожу на руке мучителя, чтобы он потом несколько дней, потирая или смазы-вая загноившуюся ранку, поминал его недобро. Но Грика заметил, что, вопреки этой несгибаемости, в оранжево-карем выпуклом глазу окуня с черным широким зрачком плещется испуг. В нем отражались клочья голубого неба, ветви ветлы, угол хлипкой крыши, перевернутая физиономия самого Грики, и за всем этим вставала тревога непонимания. Невидимое нечто протянулось к нему с той стороны границы и выволокло туда, где невозможно дышать, окружило, обстало невиданными сущностями и смотрело, смотрело на него парой странных, часто мигающих, непривычно близко друг к другу посаженных глаз. Очень аккуратно, стараясь не причинить лишней боли, Грика вытащил крючок из окуневой пасти и выпустил рыбу в озеро.
О проекте
О подписке