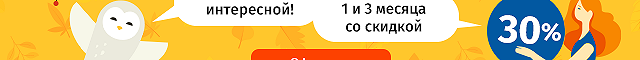
Во 2-й части романа В. Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» так описывается деятельность редактора районной газеты: «Это был старый газетный волк, как он сам себя с гордостью называл. Но не из тех волков, которые, высунув язык, гоняются за свежими новостями. Нет, от новостей он как раз всегда шарахался в панике. И если в городе или районе случалось что-нибудь достойное внимания, то есть действительно какая-нибудь новость, Ермолкин делал все, чтобы именно она никак не попала на страницы его газеты. Бывало, читая где-нибудь, что даже какая-то буржуазная газета не могла скрыть чего-то, Ермолкин только руками разводил. Да что ж это в буржуазной газете редактор такой, если чего-то скрыть не может.» Рассуждения энкэвэдэшника на ту же тему: «Ах, Андрей Еремеевич, – покачал головой Фигурин, – не мне вам говорить, что нам нужна не всякая правда, а только та, которая нам нужна.»
Когда речь идет о государственной политике, реализуемой через СМИ, основной причиной замалчивания являются стремление представить себя в глазах сограждан или мирового сообщества (партнеров) в наиболее выгодном свете, а также – стремление создать иллюзию, что официальная (декларируемая) идеологическая доктрина не расходится с реальной политикой.
Так советской пропагандой замалчивались секретные статьи советско-германского договора 1939 года. Замалчивались определенные аспекты фронтовой действительности в Великой Отечественной войне. Частично замалчивался характер позиций противостоящих друг другу в период перестройки сил.
В своих воспоминаниях Г. Арбатов пишет о том, что восемь лет замалчивался факт болезни Л. И. Брежнева. Наложив табу на информацию о болезни Брежнева, власть хотела представить его как жизнеспособного и деятельного лидера, проецируя эти характеристики и на себя саму.
Функцию поддерживания на должном уровне авторитета власти выполняло в СССР и замалчивание фактов крупных природных и техногенных катастроф, а также состояния окружающей среды. Ограждая социум от информации о катастрофах, СМИ формируют у него излишне оптимистическое представление о действительности, в котором присутствует компонент семантики «при такой власти все хорошо и опасаться нечего». Примечательно, что в то же время, когда советские СМИ замалчивали правду о состоянии окружающей среды в стране, они активно акцентировали внимание на положении в этой области за рубежом.
Сходная функция (поддерживания/создания авторитета) реализуется и в тех случаях, когда объект «А», конкурирующий с объектом «Б» в той или иной области, замалчивает достигнутые в ней последним успехи.
Замалчивание как фактор (инструмент) внешней политики используется для оправдания определенной позиции государства или правительства по тому или иному вопросу.
Замалчивание эффективно для трансформации представлений социума об определенной личности в целом или конкретном поступке этой личности. При этом замалчивание конкретных фактов биографии определенного лица может приводить к нежелательным для дезинформаторов последствиям.
В тоталитарных или близких к ним по своей природе обществах создаются условия, при которых информацию можно дозировать не только для всего социума в целом, но и для отдельных его частей, повергая тем самым последние в ситуацию полной или частичной информационной изоляции.
Замалчивание может осуществляться и исходя из собственно тактических соображений. Например, тогда, когда хозяева СМИ, для того чтобы мобилизовать свои силы для преодоления последствий какого-либо события, определиться с тактикой собственного поведения в сложившейся ситуации, переносят сообщение о событии на более поздний срок. В СССР так было с известием о смерти Сталина. Внутрипартийными тактическими соображениями объясняет А. Т. Твардовский то, что на XXIII съезде КПСС обходился молчанием вопрос о культе личности.
Стремление представить себя в наиболее выгодном свете порождает замалчивание фактов, которые могут обеспокоить общественность, знание которых социумом может потребовать от власти дополнительных усилий в той или иной области.
Следует помнить о том, что обнаружение предмета замалчивания приемником или даже возникновение у него обоснованного предположения о его существовании влекут за собой подрыв доверия к источнику и понижение его авторитета, то есть продуцируют результат, прямо противоположный тому, на который реализация замалчивания направлена.
Пример такой ситуации приводит Г. Арбатов: «Притом подлинные размеры своих военных сил мы скрывали не только от общественности, но и от партнеров на переговорах в Вене, а это, естественно, еще больше подрывало доверие к нам».
Замалчивание может ограничивать круг вариантов объяснения события или возможных действий, между которыми приёмнику предлагается сделать выбор, и тем самым ставит его в жесткие, удобные для источника рамки. То есть по форме выбор предлагается, а на самом деле – навязывается. Если же при этом дилемма состоит из двух несоизмеримых в содержательном плане частей, то действия адресата дезинформации предопределены.
Вспомните сцену из фильма «Подкидыш», где Ф. Г. Раневская спрашивает девочку: «Девочка, чего ты хочешь: на дачу поехать, или чтобы тебе голову оторвали?».
Высказывания современных политиков, бизнесменов и государственных чиновников подчас буквально дублируют слова героини Раневской. Из интервью с А. Чубайсом: «Можете любить Западную Европу, можете не любить, но мы с ними должны взаимодействовать, быть на одном поле. Не хотите – не надо. Будете вместе только с Индией, Пакистаном и арабскими странами. Нравится вам это? Но только у нас будет такая же жизнь, как и там. В этом смысле нет альтернативы: западник, или не западник?».
Для того чтобы использовать этот прием, политикам и журналистам не обязательно быть знатоками кинематографа, так как сам по себе прием прочно вошел в политический дискурс и применялся, например, в Германии накануне прихода к власти фашистов. Об этом в «Автобиографии» пишет А. Кёстлер: «Поляризация, не оставлявшая среднего пути между опасными крайностями, нарастала с роковой неотвратимостью. Об этом красноречиво свидетельствует название тогдашнего бестселлера, книги некоего Никербокера “Германия нацистская или советская?”. Не было третьей силы, не было лучшего выбора». Воздействие на приемника этих и подобных им высказываний базируется, во-первых, на изначально ложной установке «третьего не дано», а во-вторых, на том, что априорная проигрышность одного из вариантов оттеняет (подчеркивает) мнимую предпочтительность другого. В результате этого дезинформатор навязывает (стремится навязать) выгодную для него точку зрения, а приёмник оказывается в ситуации, подобной той, которая воссоздана в стихотворении Максимилиана Волошина «Гражданская война»: «И там, и здесь между рядами // Звучит один и тот же глас: // – “Кто не за нас – тот против нас! // Нет безразличных: правда с нами!”».
Сводя до минимума совокупность возможных объяснений события, замалчивание навязывает приёмнику выгодный для источника способ их интерпретации. Исследователи манипуляции в качестве одной из используемых в её рамках технологий называют мнимый выбор. Суть этой технологии в том, что «слушателям или читателям сообщается несколько разных точек зрения по данному вопросу, но так, чтобы незаметно представить в наиболее выгодном свете ту, которую хотят, чтобы она была принята аудиторией». К конструированию ситуации мнимого выбора, реализуемого на уровне государственной информационной политики, можно отнести случаи, когда государство целенаправленно увеличивает (или способствует увеличению) количество информационных печатных органов (или каналов ТВ), которые, формально различаясь по принадлежности и непосредственным задачам, фактически сообщают один объем информации.
Замалчивание может проявляться в негласном запрете на использование определенных пластов лексики и даже конкретных слов. Это, в первую очередь, слова, фиксирующие понятия (идеологемы), концентрацию внимания на которых социума власть или хозяева СМИ считают по той или иной причине нежелательными.
Замалчивание проявляется и в академической традиции, в частности в том, что в толковые словари, претендующие на полноту и адекватность воспроизведения лексикона того или иного языка, по идеологическим соображениям не включаются определенные слова. То есть обходятся молчанием (по сути – объявляются несуществующими) лексемы, которые или содержат в своем оценочном плане негативное отношение к компонентам государственного устройства, или именуют реалии и понятия, о существовании которых официальная идеология предпочитает не упоминать, так как они характеризуют её в невыгодном свете. А. Вежбицка отметила слова, незарегистрированные 12-томным «Словарем польского языка». Э. И. Хан-Пира указал, что слова лишенцы, невозвращенцы, невыездные, спецпереселенцы, спецпайки и др., не нашли отражение в толковых словарях русского языка. Восьмое издание Словаря русского языка С. И. Ожегова не включает в себя такие широко употребительные слова, как сионизм, сионист, сионистский.
Противоположностью замалчивания является гласность и свобода слова. Об истории и конкретных фактах проявления (и отсутствия) гласности в СССР в период перестройки много писал А.Д. Сахаров. Возникновение, развитие и упрочение гласности в СССР воспринимается в качестве фактора, который существенным (или даже определяющим) образом повлиял на уничтожение диктата КПСС и самого государства.
О проекте
О подписке
