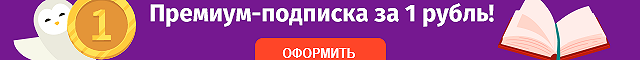
«Это пасхальное яйцо „Георгиевское“. Оно было создано в 1916 году. Это время Первой мировой войны, когда даже для императорской семьи стало неэтично заказывать у Фаберже какие-то роскошные, дорогие изделия. Поэтому по сравнению с предыдущими это яйцо выглядит скромно. Оно покрыто перламутровой эмалью, и поверх ее нанесено изображение ордена Святого Георгия. Это белый четырехконечный крест, орденская ленточка, кроме этих аттрибутов видны еще два медальона с портретами Николая Второго и царевича Алексея. Дело в том, что в конце 1915 года Николай и Алексей находились на фронте в военной Ставке под Могилевом. Так получилось, что им самим приходилось принимать военные смотры, проверять наблюдательные посты, т. е. они как бы непосредственно участвовали в военной жизни. Тут требовались героизм, мужество, и за это Николай Второй получил орден Святого Георгия четвертой степени, а Алексея наградили Серебряной Георгиевской медалью. И эти награды мы видим с вами на крышечках медальончиков. Кстати, именно по поводу награждения и было создано Георгиевское яйцо. Николай Второй преподнес его на Пасху 1916 года своей матери Марии Федоровне, которая находилась в это время в Крыму. Получив такой подарок, она, конечно, очень растрогалась, потому что здесь были портреты ее сына Николая и ее внука Алексея. Это яйцо стало единственным в этой императорской серии, которое было вывезено за границу непосредственно самой владелицей. Когда Мария Федоровна покинула Россию в 1919 году, она взяла его с собой и передала потом по наследству дочерям Ольге и Ксении, а уже ее внук Василий Романов продал это яйцо на аукционе в 1960 году. И именно тогда его и купил Малкольм Форбс. Сейчас оно вновь вернулось в Россию».
«Такая вот „кругосветка“, – колыхнулось в моем сознании. – Малые вещицы, молекулы культуры, можно сказать, а странствиями своими, истоками искусства Фаберже, интересом, который оно вызывает в мире, единят весь Земной шар».
ЛК:
«Пасхальные яйца могли заказывать у Фаберже не только члены императорской семьи, но и другие богатые люди, у которых были средства. Это, например, яйцо-часы герцогини Мальборо. Это была внучка американского миллиардера, вышедшая замуж за английского герцога. Она была дама очень состоятельная и, побывав в Петербурге и увидев во дворце Марии Федоровны пасхальное яйцо с часами, она загорелась желанием иметь такое же и сделала свой заказ Фаберже. И вот, пожалуйста, тот изготовил такое же праздничное яйцо к Пасхе и для нее. Но здесь вместо круглого часового механизма мы видим циферблат, который располагается горизонтально, в виде белого опалового поясочка с цифирьками. А роль стрелочки выполняет змейка, усыпанная бриллиантиками и алмазами. Нам сказали, что все механизмы работают, но здесь часы просто не заведены. Циферблат мог вращаться, и стрелочка-змейка указывала время. Но кроме того, что часы были пасхальным подарком, их изготовили и как декоративное украшение в виде вазы. Эта классическая форма хорошо прочитывается. Мы видим золотые ручки вазы, набалдашничек, подставочки. Вот такая четкая, строгая, торжественная форма. Но такие дорогие подарки заказывали у Фаберже не только европейские богачи. Это могли делать и наши соотечественники».
«Часы-то, часы – золотая притча о том, что время коварно», – отметил я свое.
ЛК:
«Это пасхальные яйца, которые были сделаны по заказу сибирской купчихи Варвары Петровны Кель. Она тоже была дамой очень богатой, владела Сибирским пароходством, железными дорогами и даже золотыми Ленскими приисками. Есть сведения, что она снабжала золотом мастерские Карла Фаберже. Возможно, по этой причине он и его мастера семь лет подряд изготавливали для этой женщины пасхальные подарки. Причем, они отличались особенной, чрезмерной даже роскошью. Вот, к примеру, пасхальное яйцо „Шантеклер“, т. е. „Петушок“. Вспомним сейчас с вами такую композицию, яйцо-часы, которое мы видели в предыдущем зале. Но то яйцо предназначалось для императирицы Марии Федоровны, а это было сделано для сибирской купчихи. Вот если вы их сравните, то наверняка через это яйцо вы как бы почувствуете купеческое, мещанское желание выделиться, т. е. казаться гораздо щедрее, богаче самой российской императрицы. Это яйцо действительно крупное по размеру, имеет массивную подставку. Оно обильно украшено золотом, жемчугом и даже покрыто такой престижной голубой королевской эмалью. А рядом – яйцо, покрытое красной эмалью. Очень насыщенный красивый цвет. Оно содержало в себе сюрприз в виде курочки, внутри которой в свою очередь находился маленький складной мольбертик, на нем вы сейчас видите портрет царевича Алексея. Но это позднее изображение. А изначально здесь был изображен портрет самой Варвары Кель. Так или иначе у этой витрины мы вспоминаем самое первое в представленной вам на обозрение коллекции пасхальное яйцо под названием „Курочка“. Здесь снова присутствует равнение на российский императорский двор, равнение на императрицу, на некий идеал».
«Сознательно творил сказку Карл Фаберже, – только и проговорил я себе мысленно, – на ее уровень выводил искусство, прокламируя будто бы, что Жизнь истинная и Игра – синонимы, что смысл этих понятий один – дарить людям радость, созидать ее, творить, выращивать Красоту как цветок Любви и Добра. Они ж, высоколетающие эти птицы бытия нашего, живут лишь в гнездах Радости и побеждают Зло, как всегда это случается в сказках. Родина же таких гнезд – Детство, Семья».
ЛК:
«Подобные пасхальные яйца были очень дорогие, поэтому Карл Фаберже изготавливал и вещи более дешевые, доступные широкому кругу публики. Такие миниатюрные пасхальные яйца, например, которые служили подвесочками, кулончиками своеобразными. В России даже существовала традиция дарить маленьким девочкам на Пасху по одному такому маленькому яичку. Потом, когда они вырастали, у них набирались уже целые ожерелья их. Причем, все яички были совершенно разные, отличались и по орнаменту, и по цвету эмали. Даже форма у каждого подарка была совершенно оригинальная. Вот, например, зайчик виден, лапоточек, цыпленок смешной, желтенький, совенок. Формы были заимствованы из мира природы. И такая интересная подача характерна для мастеров фирмы Фаберже, которые обладали огромной, неиссякаемой фантазией».
– Как не обратить внимание, Янтарик, – сказал я внуку, – что вещички у большого Художника совершенно личностные, разнятся один от другого, как разнимся между собой мы, люди. Очень человечное искусство у Фаберже.
ЛК:
«Итак, мы попали с вами в зал, где представлены эксклюзивные вещи, которые до Тюмени ни в одном российском городе еще не экспонировались. Это предметы искусства и утилитарного назначения. Начнем с декоративных вещиц, которые служили украшением, и в то же время в них могла скрываться какая-то потайная функция. Вон то, к примеру, креслице декоративное. Им можно было украсить, допустим, интерьер, поставить на столик туалетный. И тем не менее сиденье приподнимается, и там внутри обнаруживается тайничок. То есть это креслице можно было использовать как миниатюрную шкатулочку. Бонборьерка вот такая, носилочки своеобразные. Украшены золотом, перламутром, костью. Это тоже своего рода маленький ларчик. Бюстик в виде женской головки – не что иное, как парфюмерный флакончик для духов. Но обратите внимание, что сделано все так изящно, что этот флакончик можно было использовать как украшение. Дамочка могла им любоваться и в то же время использовать по назначению. Но были вещи и такие, которые не содержали в себе никакой декоративности. Они создавались только для того, чтобы их созерцать, любоваться их красотой и формой как предметов искусства. Вот мы видим анютины глазки, цветочки, стоящие в вазочке из горного хрусталя. Миниатюрные леечки из нефрита, украшенные разноцветной эмалью и алмазиками. Кстати, создается впечатление, что в вазочке налита вода, но на самом деле это чистый прозрачный хрусталь. И все это обработано очень тонко, тщательно, аккуратно. Такая вот иллюзия с водой появляется. И такие безделушки были любимы российской публикой, пользовались большим спросом, и практичным европейцам, когда они видели такие вещи на выставках в Европе, им было непонятно, для чего вообще их покупать: в быту ведь они не могли пригодиться.
А сейчас мы с вами увидим предметы дамского обихода. Перед вами женский театральный бинокль, украшенный розовой эмалью и бриллиантами. Две туалетные баночки миниатюрные. Кулончик на цепочке в виде пасхального яичка. Ручка от декоративного зонтика, который принадлежал Александре Федоровне. Мы видим ее вензель. Сама ручка сделана из халцедона. Но самый изящный, изысканный из этих изделий – браслет под названием «Морозные узоры». Он был создан по заказу Эммануила Нобеля для своей супруги и имел одну особенность: у него была сьемная цепочка. Можно было этот браслетик носить на шейке как колье, а можно было отцепить часть цепочечки и носить на руке. Обратите внимание, что эти узоры в каждом сегменте, в каждой частице браслетика ни разу не повторяются. Они украшены бриллиантами, и каждый узор совершенно отличен от соседнего. Как, впрочем, и в природе, которая никогда не повторяет форм, линий в своих творениях и всегда она разная. Конечно, какие-то вещи производились в единственном экземпляре, по заказу, они были штучные. Но были и товары народного, так называемого массового потребления, которые требовались в обиходе, и на производство их работали целые мастерские. Так создавались портсигары, табакерочки, шкатулочки. Вот перед вами витриночка с ними. Они были в достаточно широком обиходе у российской и европейской публики. Вот портсигары, предметы, казалось бы, мужского обихода, но тем не менее их украшали очень изящным растительным орнаментом, характерным для эпохи модерна. А вот этот пробковый портсигар на вид кажется невзрачным, но внутри изящно украшен. Он принадлежал Николаю Второму и был подарком Александры Федоровны своему супругу. На нем можно даже увидеть в обрамлении бриллиантиков и маленьких алмазов два миниатюрных портрета с изображением старших дочерей Ольги и Татьяны. Это – дамский портсигар. Дамы начала двадцатого века, как известно, тоже курили. Есть сведения, что даже дочери Николая Второго баловались, курили втихушку, пробовали. Ну, от этого мы, наверное, никогда не избавимся. И теперь мне хотелось бы вам еще показать эти табакерочки очень красивые. Они входили в так называемый кабинетный подарочный комплекс. Когда ко двору Николая Второго приезжали какие-то европейские послы, гости, дипломаты, он, конечно, одаривал их подарками. Это, впрочем, существует и сейчас, всякие представительские такие штучки. Ну, а чем важнее была персона, тем, естественно, и роскошнее был подарок. Например, эти две табакерки. Одна из них украшена золотой эмалью, другая голубой королевской эмалью, все это покрыто золотом, золотой сеточкой, и здесь видим даже вензель Николая Второго и его самого в медальончике.
Ну, вообще ассортимент изделий фирмы Фаберже был очень широким. Практически все, чем мы пользуемся сейчас – выпускалось в его мастерских. Столовые приборы, допустим, письменные принадлежности, ножи, электрические звонки, часы и прочее».
– Эстетика полностью в быт шла? – спросил я чисто риторически нашу Золотую курочку.
– Да, эстетика как раз и предполагала, что нужно окружить человека такими изящными, красивыми вещами.
– Воспитывать людей Красотой.
– Конечно ж, конечно, ходили тогда хорошие такие идеи, что сам человек от этого будет меняться, он начнет тоньше, лучше понимать Красоту подлинную, ценить настоящее искусство. Художественные вещи способны влиять на человека, менять его сущность.
– Способствовать становлению ноосферного человека и человечества, если говорить о нынешнем дне, – добавил я, и возражений, конечно же, не последовало.
Зато Янтарик мой вдруг оживился тут и начал рассказывать мне о том, что же они увидели с бабушкой в книге о Фаберже. Я не раз ее раскрывал и знал, что там было представлено в иллюстрациях многое еще. Стеклянный стакан, вложенный в серебряную ажурную оправу в виде венков с пересеченными стрелами, монограммами царей Петра 1, Николая 11 и надписью: «Император Николай 11 пил изъ этого стакана здоровие полка 9—10 января 1898 г.». Пресс для бумаги, являющий собой серебряного слона с клыками из слоновой кости и эмалевыми глазами. Совершенно изумительные брелки в виде фигур слоников из сердолика, гелиотропа и агата. Сахарница из серебра с позолотой, сделанная в виде скульптурного кочана капусты. Рельефное изображение зимнего пейзажа на крышке настольного портсигара с композицией на сюжет русской сказки «Морозко». Судок для специй из грушевидных хрустальных сосудов. Ложки чайная и кофейная с орнаментом многоцветной эмали по скани новорусского стиля. Прелестная брошь в виде жука-рогоносца, усыпанного бриллиантами, с сапфиром в голове. Серебряная солонка в виде мешка из грубой холстины, внутри – позолота. Сервизные чайник, сахарница и молочник с густо позолоченной гладкой поверхностью предметов и рельефно выделенными на боках их золотистыми травами, цветами, насекомыми, птицами. Очень мудра эта акцентная обозначенность художником того, что мы, люди – дети природы и что жить нам подобает, как богам, в садах, и что все в бытии вплоть до грубой холстины мешка может засиять в ореоле Красоты у «артистического человечества».
ЛК:
«Вот на первом плане ножик для разрезания бумаги, сделанный из нефрита. Рукояточка украшена золотом, рубинчиком. Рядышком в этом же стиле перышко на подставке. Оно тоже из нефрита змейкой, алмазиком украшено. Предмет же овальной формы не что иное как настольный электрический звонок. Казалось бы, вещь простая, но тем не менее изящно исполнена. Кнопочка сделана из лучисто-малинового граната, стрелочка золотая, а сам корпус из нефрита. Из нефрита же изготовлен и курительный мундштук. А круглой формы марочница сделана из горного хрусталя. В каждом сегменте ее находится водичка, т.е. можно было марочку обмокнуть в нее и наклеить на конверт. А вот такие фотографические рамочки овальной формы пользовались популярностью у дамского населения. Украшались они орнаментом, чаще всего цветами. Рядом вы видите миниатюрный бюстик с портретом Александра Третьего, и была целая такая серия изящных бюстиков, посвященных 300-летию династии Романовых. Таких предметов прикладного характера за время существования фирмы Фаберже было создано более двухсот тысяч штук. К сожалению, большая часть этого наследия находится сейчас за границей в музеях Америки и Великобритании. В двадцатых-тридцатых годах государству нужны были деньги, и все эти вещи распродавались за границу. Сейчас в России сохранилось лишь около 300—500 подобных изделий. Прежде всего это экспонаты Эрмитажа, Оружейной палаты и некоторых частных собраний».
И опять я раздумался об «артистическом человечестве», о тех минутах, когда шевельнулась во мне сказка, зарождаться стали первые ее вариации. А началось все достаточно прозаично. Пришла почта, просмотрел я ее, устроившись на диване. Сразу же стал читать свою любимую «Литературную Россию». И вот я уже за столом со свежим номером газеты от 18.01.2008. Как раз в канун Крещения вышла. Передо мной стр. 12 и 13 в один разворот под рубрикой «Как живой». Слева с переходом на вторую страницу исповедный рассказ Александра Денисенко «Птица божия – Коля Шипилов» (сразу до меня и не дошло, что нет уже его на белом свете, что мемориальные передо мной тексты). Справа рассказ Олега Гонозова о Михаиле Пришвине «Золотая курочка с Блудова болота», живущая до сих пор в селе Усолье Софья Павловна Корягина, ставшая прототипом пришвинской Настеньки из сказки-были «Кладовая солнца». В свое время утонул я в его творениях, как в стихах Сергея Есенина в школьную пору, когда сняли с него запрет. Книги Михал Михалыча стали для меня настольными. Сразу несколько открытий принес мне свежий номер газеты. Не знал я о прототипе Настеньки, о смерти Коли Шипилова. Не знал, живя в сибирском своем далеке, и о того, что был он прекрасным бардом. Проза же и сердечность его всегда меня потрясали, и стал он героем одной из миниатюр в моем «Субъективном словаре». Предтечу его, миниатюрный «Словник» подарил я Шипилову на вокзале в Тюмени. Он успел его проглядеть и, выскочив из вагона попрощаться, тут же и отрецензировал: восторженно вскинул руку с сомкнутой ладонью и оттопыренным большим пальцем, хорошо, мол, братуха! Первый и единственный раз увиделись мы тогда вживую.
ПО УМОЛЧАНИЮ:
«Поэт – кто уставши от сострадания лучшим и не научившись умирать, может меж тем как друг мой Юра Яценко рвануться на круг, раздвигая толпу, и дерзко крикнуть:
Позвольте на луну мне плюнуть,
Ей-богу я достану до луны.
А ведь в жизни монашествует в своей издательской келье этот современный екатеринбургский Сытин, издавший массу книг известных, а также и неизвестных прозаиков и поэтов, давая им путевку в большую литературную жизнь. И родственен Юре Яценко в этом Коля Шипилов, отзывчивый на боль и талант. Он тоже монашествует, только – в Москве.
Поэты – те же монахи, только монахи жаждут общения с Богом, а поэты – общности с людьми, эти слова Николая Шипилова вспоминались мне почему-то, когда я общался с ним на перроне в Тюмени: возвращался он с писательской братией из поездки по Транссибу. О скольких же талантливых поэтах порассказывал Коля с болью и восторгами в «Литературной России», вытаскивая их из безвестья: «монаха» же стая отвергает по закону «белой вороны», и тем жестче, чем он талантливей. И шептали ему в безднах сибирской жизни такие самородки или кричали, как кричит утопающий в туманной реке, или скандалит кто по ничтожному поводу, являя высокое великодушие там, где место злобе, или публично выставляет себя на посмешище, возлюбив то, что отторгнуто или осмеяно обществом, но во все времена и при всех государях – все это заключено в скорбных словах Христа: «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня». Так вот, до сердечной боли, пронзительно может слышать людей этот невысокий человечек-живчик, огонь духа Коля Шипилов, синица в нашем литературном мире. Спасибо тебе, брат!»
Может, и не успел уже прочесть эти мои слова Коля. Но более всего отозвались во мне слова о Шипилове, что птица божия он. Так воспринимали его, стало быть, и другие. Легкие, трепетные эти пернатые существа, и более всего, наверное, из всех птиц я люблю их. Заворожили они однажды меня, когда весело цвиркали, перепархивая в кущах кустарника у тоннеля одного на старой Кругобайкальской железной дороге, и долго я наблюдал за их синичным сообществом, уловив в нем что-то людское, теплое.
Синицы – ниспосланные человеку комочки счастья, глядя на них, хочется улыбаться. По живости, любопытству, открытости миру, счастливому щебетанью и одновременно с этим философской какой-то сосредоточенности самих в себе крохотули-синицы истинно божии птицы. И не удивительно, что есть среди них и отшельники, а по-другому монахи, как есть они и среди людей, такие среди нас особи, кто занимается своим отдельно от других. Глядел я на одну одну синицу-отшельницу, и так и подмывало меня спросить ее, какому же богу она молится. Весело даже подумал, что одиночество такое – удел гениев и орлов. В общем, представляю я почему-то синицами тех, кого можно отнести к артистическому человечеству. Крылатыми людьми называю я их. Это будто о них говорил Иисус Христос: «Вы лучше многих птиц».
ЛК:
О проекте
О подписке

