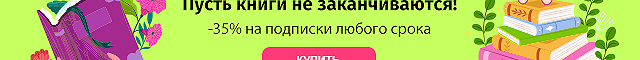
– Совершенно верно, – он перебил меня. – Этот поток напоминает, что жизнь как ребенок, не чужой, свой, о котором нужно заботиться, это хрупкая конструкция, мы несем ее, а вокруг так много угроз и опасностей. Самое страшное – видеть в ней однообразие. Я боялся поймать предсказуемость в нашем поведении. Ты смотришь на нее, видишь, как она идет по коридору в спальню, сколько шагов делает в комнате, ловишь ее бесцельный взгляд, она даже перестает скрывать его, ты догадываешься, о чем она думает, но не пытаешься понять, а лишь убеждаешься в собственной правоте. Затем становится понятно, почему она ведет себя так, в каждой мелочи есть свое послание. Она старается, чтобы ты понял, что хуже нее, что она делает тебе одолжение, живя вместе с тобой, кормя грудью сына. И свобода раскалывается на две части, перестает быть общей, остается где-то далеко, в прошлом, когда мы знали и видели друг друга совсем не такими. Мы оба начали доказывать друг другу, что не виноваты. Я принялся подыгрывать ей, на скрытый укол отвечать таким же уколом. Вскоре отношения превратились в игру, правила которой менялись ежедневно.
( – Ты хочешь, я знаю, ты хочешь, – шептала она пьяным голосом.
Может быть, я и хотел, а может быть, мне стоило встать и уйти.
– Ну что ты так смотришь? Я тебе не нравлюсь? – настаивала она. – Между прочим, красота дается от Бога, только ты один этого не понимаешь, – обижалась она и отворачивалась.
– В Союзе нет Бога, – спокойно отвечал я и надвигался темной тучей на ее мясистое тело.
Нам бывало хорошо, но потом снова наступали тягостные минуты молчания, когда говорить не хотелось, и любая попытка начать диалог вызывала раздражение. – Беременна так беременна, – подумал я, когда услышал ее испуганный голос.
Она любила врываться ко мне на кафедру, говорила всегда громко, чтобы слышали все, кто был рядом. Мы спешно поженились, пока еще можно было скрыть наш грязный секрет. А дальше начались дни тягостного ожидания, переполненные истериками, молчанием и болезненным примирением.)
– Единственное, что объединяло нас и заставляло общаться, – наш сын. Он смотрел большими и ясными глазами, ловил каждый взгляд. Я знал, что уже много недель мы поддавались молчаливому обману, но обманывали не его, а себя. Дальше все развивалось даже слишком банально, неприлично просто. Мы разошлись, но с сыном я виделся почти каждый день. Когда он начал произносить отчетливо первые слова, я с досадой понял, что не могу слышать этого, вникать в его мир. Она совсем не любила его. Ее родители занимались внуком, а она в это время искала новые ощущения. Однажды мы встретились на подпольном концерте общих друзей. Она пришла в обнимку с молодым длинноволосым хипарем, крепко держащим ее за талию. Мы не поздоровались, сделали вид, что не знаем друг друга, но мне стало вдруг неприятно, будто кто-то вскрыл мое письмо. Неприязнь быстро прошла. Я вдруг понял, что она бежит от себя, как делал и я все это время.
( – Смысла или его подобия не было ни в чем. Наш сын рос, а мне казалось, она избегает его, старается, чтобы он не видел ее такой – пахнущей духами, коньяком и дешевыми сигаретами. Я старался чаще бывать у них, разговаривать, играть с сыном, но это не помогало. Когда я шел по широкому проспекту, от дома к дому, у меня менялось настроение. Он жил в другом мире.
К счастью, на кафедре мне все еще доверяли, я читал много лекций, и это отвлекало меня от дурных мыслей.
Она все больше гуляла, теряясь в домах культуры и темных спальнях коммуналок. Я узнавал о ней от знакомых. По вечерам, когда я приходил навестить сына, ее никогда не было дома, что очень радовало меня. Удивительно, но теперь было легче не видеть ее, ничего не знать о ней.)
– Однажды, когда я зашел к ним вечером, сын попросил меня забрать его с собой. Я сказал, что должен поговорить с мамой, не представляя, как сообщить ей об этом. Для нее эта новость стала ударом, хотя она знала, что все делает для этого, но из принципа отказалась отдать его мне. Это означало бы, что она проиграла, что ее бросили, а она не привыкла к такому отношению.
Теодор опустил глаза, разглядывая корешок моей книги.
– Хороший у вас вкус, – по-профессорски сказал он.
Я благодарно кивнул и попросил продолжить.
– Дальше? – он задумался на мгновение, как будто вернулся в прошлое. – Я не заметил, как прошло пять лет с тех пор, как мы развелись. Я вел абсолютно холостяцкий образ жизни, совсем без женщин. Иногда по ночам играл на гитаре или слушал музыку, иногда бродил по безлюдным улицам. Как-то весной, кажется, был конец марта, меня пригласили в Москву поучаствовать в конференции. Мой доклад, к удивлению, заинтересовал специалистов. После возвращения мне позвонили из института Иоффе и предложили прочитать там курс лекций. На кафедре меня не хотели отпускать, но выбора у них не было. Так впервые я оказался в Петербурге. Честно говоря, я ни о чем не жалел. Беспокойная чувственность молодости притихла, но окончательно не покинула меня. Равнодушие к неудачам постепенно позволило мне стать таким, какой я есть, а не каким меня хотели видеть. Когда я вернулся в Ростов, в моей жизни появились мелкие прихоти, которые я удовлетворял немедленно. После школы сын забегал ко мне, мы слушали музыку, разговаривали, иногда ходили играть в футбол. Он рос очень быстро, но с возрастом становился похожим на нее. Мы никогда не обсуждали мать, как будто ее не существовало. Так было удобно нам обоим. Лекции, которые я читал, семинары, собиравшие физиков со всего Союза, оказались очень продуктивными. Вскоре я стал сотрудником НИИ. Идея переехать в Петербург захватила меня с первого дня, как я оказался здесь. Близость родной Риги, личные перспективы и богемная жизнь очень привлекали меня тогда. Я гнал прочь мысли о маме и сыне, но они не отступали. На кафедре на меня давили, пытаясь удержать любыми способами, но решение уже приняли наверху. Дело оставалось за мной. Я разрывался, в растерянности ходил по ночному городу.
( – Поступки и слова никогда не помогали и вряд ли помогут в отношениях с женщинами. – Безжизненные чучела, – так бы сказал Толя.
Наша связь потеряла смысл, и если бы не было ее тела, привычек, проникших и в мою жизнь, пусть я даже этого и не хотел, если бы не места, где мы встречались, не площадь, рядом с которой жили, не наивное знание, что рядом есть кто-то, кого ты, кажется, знаешь, все бы мгновенно стерлось из памяти. И что говорить, если ты уже не бежишь к ней, не чувствуешь ее запах? Только пресыщение, отсутствие ориентиров и снова пресыщение.)
– И на следующий день произошло то, что изменило мое представление о мире. Да, именно так и следует назвать эту встречу. Вот и сейчас я отчетливо помню, как на улице среди толпы рассмотрел своего одноклассника – Толю – одного из тех, с кем раньше мы собирались и играли на гитарах, и он пригласил меня в гости к своему приятелю. Сначала я отказывался, ведь даже и не мог представить, что меня там ждет, но в итоге согласился, лишь бы только отвлечься от собственных мыслей. По его словам, это была любопытная квартира, и вскоре я в этом убедился. Старый кирпичный дом выглядел жутковато: оголенный фасад был покрыт трещинами, двери подъездов открыты настежь, продавленные скользкие ступени пропадали под ногами. Мы остановились у облупленной деревянной двери, через которую сочился запах ладана. Этот странный и незнакомый запах я запомнил на всю жизнь. Открыл нам худой мальчик в поношенных ботинках и мятой рубахе. Он шепотом поздоровался и указал на закрытую комнату. Лицо его было задумчивым и не по годам взрослым. Из комнаты доносился низкий мужской голос, читающий молитвы. Мой друг вплотную подошел к двери и потянул меня за рукав. Все это казалось странным, я засомневался, но в итоге поддался. Небольшая четырехугольная комната была забита людьми. Цветные иконы на стенах делали атмосферу еще более камерной. Никто из молящихся не обратил на нас внимания. Мы встали у самой двери и начали слушать службу. Священник пел льющимся голосом, люди синхронно молились, повторяя за ним последние строки. Тогда я не очень понимал, как устроен этот обряд, все казалось мне удивительным, но больше всего поражала энергия, которую я ощущал всем телом. Я вслушивался в каждое слово, произнесенное священником, не осознавая, что он говорит, в чем смысл его речи. Мне захотелось креститься, повторить каждое движение, не упуская ни единого жеста. Отчетливо помню, как священник окропил всех присутствующих святой водой, и люди начали расходиться, а я не мог сдвинуться с места. Тогда он подошел ко мне и пригласил на следующую службу. Не помню, как мы попрощались с Толей, но домой я вернулся поздно. В голове не было ни одной мысли, к чему я никак не мог привыкнуть. Я не спал всю ночь, просто лежал и смотрел в окно на темное небо.
( – Ирония окончательно заставила меня замолчать. Жизнь – это сопротивление, но чему сопротивлялся я? До этого момента все было туманно и случайно: одни догадки, бег от неудачи к неудаче, бесполезные надежды, разочарование. Все разыгрывалось в воображении – единственном способе понять окружающую действительность. Я с легкостью проделывал прогулку вечером: сперва унылое блуждание по мокрым улицам от университета до дома под обсуждение новой пятилетки, перед тем перерыв между лекциями, проведенный непременно в компании курящих коллег, затем гложущее чувство от пустынности улиц, когда возвращаешься домой от сына, а люди нерешительного вида узнают в тебе такого же странноватого прохожего, желающего остановиться и спросить что-то совершенно бессмысленное, просто чтобы услышать голос человека. Постепенно темно-синее небо и затхлый подъезд сливаются с убеждением, что ты не прав, что недостаточно хорошо знаешь, что и как сделать. Как он будет смотреть на меня, когда вырастет? Просто взглянет и пожмет плечами. Все это может возникнуть в любом городе, куда забросит профессия или случай, и начинаешь сравнивать плакатные лозунги, улицы, площади, людей, ощущения, оставленные или сохраненные. Никакого порядка.)
– Я решился уехать в Петербург, закрепиться в институте и перевезти сына с мамой. С такими мыслями было легче уезжать – нашлось оправдание. О подпольном богослужении я постоянно думал, вспоминал текст молитв и старые иконы, висевшие в нашей квартире еще в Риге. Правда, они были для католиков, но тогда для меня это ровным счетом не имело никакого значения. Я еще не был крещеным. В Петербурге, надо сказать, холостяцкие причуды проявились с большей силой: пластинки, книги, бутылки наполнили мою комнату в корпусе преподавателей. Но меня постоянно тянуло в церковь, я сопротивлялся, объяснял себе, что желание быстро пройдет, так же неожиданно, как и появилось. Но все чаще я стал ходить мимо храмов, понимая, что окруживший меня со всех сторон атеизм куда-то исчезает, рациональный подход к жизни, которому меня научила наука, вовсе превратился в циничный анекдот. Церковь Святой Екатерины вызывала во мне особые чувства, когда я забывал о себе, своем существовании, оказывался частью чего-то большего, чем собственной жизни, тем более, что в то время началась реконструкция храма – он должен был стать органным залом филармонии. Я так часто заходил в него, что вскоре все уборщицы уже узнавали широкоплечего Федю.
( – И как легко мы находим смысл в том, что нам нравится, что доставляет удовольствие или отвлекает от беспокойства. Ожидание – оно обрушивалось на меня и раньше, но теперь я не чувствовал себя ничтожным, не способным раскрыться перед ним. – Не гений, и что? – повторял я себе каждый раз, когда брал в руки гитару или открывал «Общую теорию относительности». )
– Объяснить себе, почему я выбрал именно этот собор, было слишком трудно, хотя в минуту, когда я принимал это решение, вероятно, все было понятно. Последующие поступки выстраивались в ряд и получали смысл только из-за этого выбора, сметавшего обычную причинную связь. В то же время я вправе думать, что случайностей в моей жизни не так много, чтобы списывать все на судьбу. Теперь, когда я стою напротив вас, внимательно слушающего мою историю, кажется, что все доходит до меня через зеркало, в котором я вижу себя тогда. И голос доносится из прошлого, полного необратимости. И все же окончательно я укрепился в вере после того, как понял, что и среди моих коллег никто ни к чему не стремится. Кроме научной степени и оклада их ничего не интересует. Наука, как бы парадоксально это ни звучало, чище тех людей, которые ее создают. Был один настоящий ученый, с которым мне довелось работать несколько месяцев. Он вырастил в специальных условиях породу, которой не существовало на земле. Настоящий фанат, он всегда верил, что его открытие поможет человечеству, но человечество слишком часто не готово к вызову, оно не желает резких перемен. Когда он поехал в Москву на крупную конференцию, на которой должен был представить эту породу, сделать подробный доклад о ходе исследования, его обокрали прямо в поезде. Он рассказывал уже в больнице, что держал камень во внутреннем кармане пиджака, но нечаянно заснул, а проснувшись, понял, что пиджака нет. Инфаркт, инвалидность – все закончилось быстро. Вот это был ученый, который занимался наукой. Других я не знал.
– Потрясающее упрямство, – подумал я.
– Впрочем, пройдет несколько дней, и вы забудете все, что я рассказываю сейчас. Останется воспоминание об этом лифте, в котором мы так неудачно застряли. Может, вы возьмете и прочитаете «Бритву Оккама», пройдете мимо храма, о котором я рассказываю, но это будет скорее чудом, победой иррационального.
Съежившись, он продолжил, как будто уже не мог остановиться:
– Больше всего мне бы не хотелось спасаться бегством от нелепого мира воспоминаний и надежд, попадать туда, где уже не на что надеяться. И только сейчас я начал догадываться, что смысл всего, за чем я следил большую часть жизни, оказывается абсолютной пустотой. Слишком поздно я стал замечать, что мир устроен совсем не так, как думают люди, как думаю я сам. Наверное, поэтому я и стал священником.
Он замолчал, посматривая на ржавую дверную решетку.
– Давно вы стали священником? – терпеливо подождав, спросил я.
– Срок не так важен, поверьте. Дело в другом. Слишком много разочарований, слишком часто бывал я в соборе Святой Екатерины, чтобы меня перестали замечать, слишком долго ждал момента, когда уйдет все лишнее. Но бессмысленно верить в простые вещи, знакомые нам по привычке, по ежедневному столкновению с ними. Они окружают нас в быту, в отношениях, и даже воображение теряется под их напором. Религия научила меня неверию в сиюминутное, быстрое и легкое, доступное и лежащее на удобном расстоянии. И все проблемы ушли туда, наверх, – он показал рукой на потолок лифта, как будто за ним открывался целый мир, – потому что их и не было. Остался тот я, который появился в этом мире, с незатуманенными взглядами и ясными представлениями. Удобное счастье, ощущение разумной повседневности, которое дают хорошая работа и жена, – просто не мешает, но и ничего не меняет. Жизнь превращается в ежедневный ритуал. Прошлое по-разному учит, совершенно бесполезно надрывать себя, требовать серьезных поступков, когда не понимаешь, что за всем этим стоит. Зачем наполнять пустоту тем, чего не знаешь? Трещины становятся все шире под давлением сомнений, бесконечная перспектива поисков новых дверей, открытых или закрытых, ничего не приносит, уничтожает изнутри. Эти истории я слышу регулярно, когда люди приходят и рассказывают о своих страхах, желаниях, грехах, обо всем, что мешает им жить, любить. Но я ничего не объясняю им, самое большое, что я могу сделать – заставить задуматься о том, что спасаться нужно не от кого-то, а от самих себя. Или страх становится спазмом. Мечтать бесполезно, можно только верить. И теперь ночными молитвами я побеждаю в себе раздражение и досаду, стяжаю всепобеждающую любовь к ближнему. И иду к цели единой, обретаю мир в душе. Кажется, кто-то идет, – резко обронил он.
Я промолчал в ответ. Внизу послышались шаги, чьи-то пальцы нажали на кнопку, и лифт сдвинулся с места.
– Нам всем придется освободить пространство, которое занимает наше тело, – произнес тихим голосом Теодор, накидывая темно-коричневый плащ на согнутую руку. – Да будет Господь с вами, – добавил он, выходя на улицу.
– До свидания, – глухо сказал я, и дверь с грохотом захлопнулась.
О проекте
О подписке
Другие проекты
