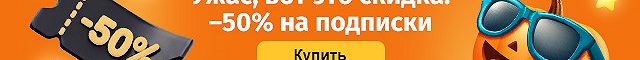
Мою книгу читали, даже комментировали. Не ругал никто. На тот момент я еще не заслуживал ругани. А старый военно-морской химик Александр Михайлович Покровский, открывший себя на закате милитаристской карьеры великолепнейшим писателем, сочувственно написал: «Можно книгу печатать, только сначала надо найти беднягу спонсора, который безвозвратно отдаст на меценатство свои кровные деньги».
Зачем спонсор? Зачем меценатство? Зачем кровные деньги? Глубоким, как «72 метра» (фильм по мотивам рассказов А. М. Покровского) молчанием ответило мне издательство «Эксмо».
Были, конечно, и другие издательства, но все они, как одно, как, например, «АСТ», ушли от авторов в глухую оборону: не принимало ничего к рассмотрению, довольствуясь своими какими-то резервами, чрезвычайно дрянными, порой. Вообще, тогда весь книжный рынок был забит похабщиной и чернухой, исторгнутой халтурщиками лихих девяностых. Тополь еще не отцвел своей антироссиянской ненавистью, какие-то писательницы с женскими фамилиями плагиатировали друг дружку, фантаст Никитин тянул псевдофэнтэзийные сопли, кто-то подражал Бушкову, кто-то Кивинову и Константинову. Емец не нашел ничего лучше, чем идти по следу Гарри Портера пера Роулинг. Зачем же в этих условиях был нужен я со своими байками о современных пиратах?
Я решил сформулировать вопрос иначе: не зачем, а – кому?
И ответил без особых мозговых усилий: я нужен самому себе.
Идей у меня было преизрядно. Печатать на клавиатуре получалось все быстрее и быстрее. Поэтому пусть все будет, как будет.
Мое решение продолжить писать совпало с поездкой на личном автомобиле в российскую глубинку. Когда-то в Тверской губернии процветали всякие Бежецки, Весьегонски, Красные Холмы и Кесовы Горы. Все эти города входили в Новгородскую вольницу, которую целенаправленно разрушали всякие князья, типа Александра Невского, и цари, типа все того же Ивана Четвертого. Что можно сказать – разрушили, обложили со всех углов церквями, а в советское время – коровниками с различным крупным рогатым скотом. К началу второго тысячелетия от коровников и церквей остались руины, народ одичал и смотрел друг на друга волком.
Здесь, в Кесовой Горе, и жил брат моей мамы дядя Степа. Сюда я и приехал на почти новом автомобиле Форд с родственным визитом. Здесь в кругу близких мне людей, выпив самогону и закусив карасями из пруда, я и поделился своими планами. Выпивка была самодельной, дяди Степиной выделки, караси были жаренными, а мы все – родней.
– И долго ты собираешься еще по морям ходить? – спросил меня дядя Степа.
– Как получится, – ответил я. – Буду книги писать, а если их издадут, то с морем сразу же завяжу. Сделаюсь писателем.
– В каком жанре? – поинтересовалась тетя Рита. – В морском?
– Ментовские детективы – вот в каком, – уверенно сказал мой двоюродный брат Вовка, мент в чине майора.
Я со скоростью увлеченного потрошителя освободил очередного карася от миллиона его составных костей и, смахнув с бровей капельки пота, заверил:
– Никакие ментовские детективы. Только то, что на душу ляжет. Про море, конечно, но и про старину, про нашу Ливонскую историю и про викингов, про «Калевалу», про «Библию», про Былины, про конец света и про Тойво Антикайнена.
– Кто же тебя читать-то будет, – вздохнул мент Вовка. – Вот, если бы про ментов, как все – тогда – да.
Мы сидели за праздничным столом, рядом бессмысленно показывал говорящие головы новостной канал телевизора, которым я тайком отключил звук, на подоконнике ждали своего часа мобильные телефоны, каждый на своей волне.
«Читать будут», – подумал я. – «По крайней мере – я сам. А про своих ментов пиши сам».
Отчего-то я воздержался произнести эти слова вслух, только подумал. Но мысли, как известно, имеют свойство быть материальны. На телевизоре случился «запил» из квадратиков, а все наши телефоны радостно моргнули подсветками экранов.
«Ну, вот, спасибо тебе, братец-алкоголик Женька!» – про себя ухмыльнулся я. – «Welcome to Паранойя-клуб».
Совсем скоро я покинул обогатившую меня культурно и познавательно Кесову Гору, покрутил руль вдоль полного бездорожья тверского угасания и дал газу.
Редко, когда на широких грунтовых дорогах, так сказать, «федерального значения», встречаются места, которые не проехать, не обойти. Пес с ним с отсутствием асфальта, но если у народа есть машины, он будут ездить, потому что иначе – никак. А если ездит народ, значит можно проехать и мне.
Но проехать по широкой езженной грунтовой трассе «Тихвин – Алеховщина – Лодейное Поле» мне оказалось не суждено. Точнее, проехать-то я, в конце концов, проехал, только с потерями и, вообще, чудом.
Хорошо укатанная трасса позволяла разгоняться, если не до 62 км/ час, то до 58 км/ час – это точно. Я выехал из очередного поворота и сразу обратил свое внимание на то, что дальше – хана, дальше – проезда нету. Можно было только перепрыгнуть через ровный ряд внушительных булыжников, пересекавших весь путь. Прыгать мой Форд не умел. Я отчаянно нажал на тормоз, но это было, скорее, от отчаянья.
Когда машина идет в занос, вращения руля – только временная мера. Столб, кювет, либо встречный транспорт – вот вероятный итог. В моем случае ни столба, ни кювета не было, зато откуда-то вылетела встречная «буханка», УАЗ-452. Она тоже удивилась преграде и тоже принялась крутить рулем и юзить вправо-влево.
Мы разошлись с «буханкой» на почтительном расстоянии друг от друга, в сантиметрах, этак, пятнадцати. Дядька, руливший ей, ругался, округлив глаза. Зубы у него были через один, волосы бесцветными кудельками прилипли ко лбу, а кепка в пятнах то ли крови, то ли отработанного масла, прилипла к волосам. Он, в свою очередь, вероятно, тоже рассмотрел мое одухотворенное лицо в таких подробностях, которых мне самому и в зеркало-то не видно.
Его УАЗ взбрыкнул козлом через камни и тотчас же свернул направо к своей обочине. Мой Форд проделал тот же маневр и в том же месте и тоже свернул направо. Конечно, звук удара о камни моей машины долго еще метался меж берез и сосен, но повредился я не сильно: смял всего лишь одно колесо. «Буханка» вообще не ушиблась на беглый осмотр, все-таки она была выше над землей, чем моя машинка.
– Видал? – сказал мне шофер уазика, подошедши поближе.
Я в ответ лишь горестно вздохнул.
– Это что же такое? – спросил он меня. – Сейчас нас расстреливать из бесшумных пистолетов будут?
– Кто? – очень удивился я, даже перестав на несколько секунд горевать по колесу. – Почему?
– Так на тебя покушение, а меня, как свидетеля завалят, – доверительно сообщил мне шофер. – Все, как в кино. Ты, видать, банкир?
– Писатель, – отчего-то я представил себя сопричастным к роду деятельности, которым пока не занимался серьезно.
– А, – кивнул головой дядька. – Ну, тогда, вряд ли. Только какая же это падла булыжники на дороге разложила?
Последние слова он прокричал, тряся кулаком в сторону леса.
Из чащи никто не вышел, лесу было безразлично.
– Может грейдер прошел и камни так выворотил?
– Точно, грейдер, – шофер посмотрел на меня, как на сумасшедшего. – Писатель, бога в душу мать!
Он уехал, а я принялся устанавливать запаску, пытаясь проанализировать произошедшее.
Если это покушение, то это не покушение. А, может быть, это шофер – банкир? Да без разницы, пусть мы оба такие вот странные банкиры. Тогда это всего лишь предупреждение. Угроза, так сказать. Только не понятно, от кого и зачем. Ни ментам, ни барыгам, ни церкви, ни чуркам дорогу я не переходил. Материальный мир исключается. Тогда остается нематериальный. А здесь-то что? А здесь паранойя, белочка и легкое психическое расстройство. Опять же не ко мне. Пусть будет грейдер.
Для того, чтобы писать книги, нельзя останавливаться. Надо стремиться к материалу, надо его искать, надо его пропускать через себя, надо его выкладывать в строки. Такой вот материализм.
И я согласился с теми словами, нечаянно произнесенными мной за столом дяди Степы. Я буду писать, и моим единственным судьей сделаюсь я сам. Время будет моим арбитром. Рукописи не горят, только надо их создавать.
Вот что нужно, чтобы писать книги.
Опыт приходит, года уходят.
Осы, шершни, пауки – это те создания, от которых меньше всего в насекомом мире хочется получить жалом в шею. Хотя быть покусанным комарами, слепнями и прочим гнусом – тоже нежелательно. Кровососы – это безобразие.
– Меня ужалила оса, – сказал я Лене и указал большими пальцами обеих рук на назревающую опухоль.
– Так быстренько приляг и полежи, пока голова не закружилась.
Я тут же лег в постриженную траву и принялся глядеть по сторонам от нечего делать.
– Я имела в виду: на диван лечь, – заметила Лена и ушла в дом за йодом. Тут же из приоткрытой двери на волю вырвался кот Федос, проскакал мимо меня к сараю, но отчего-то смешался, развернулся и осторожно подошел ко мне, принявшись нюхать мою голову.
– Чего ты вынюхиваешь, шченок? – спросил я его. – Ужели я не поднимусь с этого газона?
Но Федос смерил меня строгим взглядом желтых, как у тигра, глаз и ничего не ответил, отвернувшись куда-то в сторону живой изгороди, протянувшейся вдоль дороги.
Горло мое опухло до размеров самого крупного яйца самого крупного динозавра, обитавшего на Земле. Я имею в виду те яйца, которые эти самые динозавры имели обыкновение откладывать, куда ни попадя, как какие-то провинциальные курицы.
Кот Федя больше меня не нюхал, задрал хвост и начал им дергать вверх-вниз. Так с ним бывает, когда он чего-то недопонимает. Я проследил за его взглядом и увидел ноги. Их было две, по крайней мере, видимые мне через ту проплешь, нечаянно выстриженную мной в изгороди, когда пробовал новые садовые ножницы. Ноги были неприятные, человеческие, одетые в высокие ботинки неприятного милитаристского фасона. К ним, наверно, был приделан какой-то неприятный тип, подсматривающий в наш двор. Или милитарист, или полицай, или какой-то придурок, косящий под них.
– Федя! Фас! – сказал я коту.
Тот посмотрел на меня, как на больного на всю голову и, все также подрагивая хвостом, ушел под сарай, где у соседских котов был клуб по интересам. А я действительно был болен на голову. Горло мое опухло до размера яйца слона, то есть, конечно же, до размера самого слона.
Разных ног я навидался в своей жизни, некоторые вообще с натяжкой можно было назвать ногами. Просто копыта какие-то. О них я хотел написать во второй свое книге. Сейчас даже и не вспомню, написал, либо нет, сколько лет прошло!
***
Вторую книгу я создал уже быстрее, нежели «Прощание с Днем Сурка», хотя по объему она получилась едва ли не в полтора раза больше. А по-другому никак, ведь именно в ней я обратился к Жюлю Верну, точнее, к «20 тысячам лье под водой». В детстве именно этот роман и снятая у нас в стране фильма произвели на меня довольно сильное впечатление. Я отчего-то увлекся морем, а Константин Бадигин своим «Путем на Грумант» это увлечение только подбодрил. Только тогда море было другим, детским и радостным, потому что от него не зависела моя зарплата. Теперь, конечно, все по-другому, по-взрослому. Теперь я иностранные рубли пересчитываю, глядя в безбрежную даль волн. Хотя и Верна, и Бадигина перечитываю с тем же трепетом. Осталась романтика? Вряд ли. Осталось детство.
Быть может, объем моей второй книги «Ин винас веритас» напрямую зависел от продолжительности моего очередного контракта. Тогда для меня произошел рекордный заплыв. Еще, не будучи старшим механиком, рассчитывать приходилось на полугодовой срок работы, но парни-клерки из большой судоходной компании «Марло Навигейшн» посчитали по своему, и я отбарабанил на судне семь с половиной месяцев. Для моей незакаленной психики это было долго, даже – очень долго. Я мог мутировать, но до этого, к моей превеликой радости, дело не дошло. Как ни странно, именно каждодневное творчество помогло.
Капитан Немо – это гук, как говорили американцы. Для меня он был несколько чурочкой, а по большому счету – просто чуркой. Те, кто населяют большую страну Индию, другими быть не могут. У меня был опыт знакомства с этой державой, и всегда меня не покидало чувство большого подвоха, чем чаще мне приходилось контактировать с местным населением.
Все, куда добрались эти самые соплеменники Немо, оказывалось через некоторое время изрядно подпорченным, если не сказать больше – загаженным. Это, конечно, можно не замечать, проходя мимо, но в этом невозможно жить. По крайней мере, жить европейцам с белым цветом кожи и синими глазами.
Вся величавая и непостижимая древность, передающая с того света всем нам приветы посредством грандиозных и, безусловно, неповторимых памятников, к нынешним насельникам с индийским интерфейсом, вполне возможно, что не имеет никакого отношения.
Хотелось это дело исследовать, хотелось предположить, что все свастики пришли к нам не оттуда, а были одномоментно и там, и здесь, ибо не было гуков, были «рэддины», как когда-то называли пращуров жители Мальдивских островов, маленькие чрезвычайно озабоченные религией индусы. Тур Хейердал только посмеялся, когда чумазые, как сволочи, мальдивцы поминали своих предков с красными волосами и красными бородами, высотой под два метра, синими глазами и красно-бронзовой от загара кожей. Посмеялся, но возражать не стал.
Пусть их. Они по примеру более развитых членов ООН тоже рьяно переписывают свою историю, начав, как водится, с уничтожения всех древностей и всякой о них памяти. Мутировали белые в черных, вот и все. Как и я на своем длительном контракте чуть не мутировал. Только в моем случае видом мутации имелась в виду всего лишь смерть от невозможности приспособиться к окружающему тебя человекообразному обществу. Делов-то!
Жюль Верн, конечно, обиделся бы на меня, потому что я придал его герою совсем неевропейский национальный колорит. Но мне капитан Немо представился именно таким, не хотелось мылить всех людей одним мылом. Я же сам – тоже всего лишь часть моей нации, моего народа, пусть он и не считается в россиянии, как самобытная общность. Чурки с гор – считаются, мы – нет. Но меня это особо не волновало, черты моего характера присущи прочим ливвикам. А то, что нас осталось мало – процесс объективный, с этим ничего не поделаешь.
Мысль про объективный процесс натолкнула меня на другую: если что-то происходит, то это всегда кому-то выгодно. Мой опыт жизни в Корнуолле, работа на верфи, круг общения, в который ирландцы, шотландцы, валлийцы и даже один англичанин приняли меня без скидок на пресловутый языковой барьер, подсказывал мне, что все на самом деле должно быть просто.
Мы могли прекрасно общаться, несмотря на уровень, так сказать, образованности, смеялись над одними шутками, негодовали над одними «политическими мерами», да и вообще – никакой тебе напряженности в отношениях. По-другому дело бы обстояло, попытайся я общаться с какими-нибудь чученами, азери-баджанцами, индусами и прочими арабами.
В Советской Армии у меня был такой опыт, вылившийся в лихую драку с переломом конечностей, когда азери-баджанцы, несмотря на уровень, так сказать, образованности, практиковали другие шутки, престранно оценивали «политические меры», да и вообще – уроды. С чученами вынужденное общение закончилось резней. Интернационализм в чистом виде.
Поэтому капитан Немо сделался ярым индусом, несмотря на уровень, так сказать, все той же образованности и пристрастия к тем или иным «политическим мерам». А мы с валлийцем Стюартом, шотландцем Скоттом, англичанином Полом сообща спасали королеву.
Но если Немо вел себя так и не иначе, то, стало быть, у него было к этому какое-то извращенное, на мой взгляд, побуждение. И у азери-баджанцев, и у чученов, и у прочих арабов тоже свои побуждения, совсем непонятные мне. Пес с ним, что мы разные внешне, но мы должны быть одни и те же люди, и ценности у нас должны быть в базисе одинаковые, может быть, расходящиеся только в деталях. Но мы разные настолько, что для контакта между нами самым важным качеством становится приспосабливаемость. Причем, не с их, а с нашей стороны.
Такое поведение возможно только в случае: агрессор – мирное население. Но, позвольте, какие же это агрессоры – дети гор, всякие африканцы и китайцы тоже? Сидят себе на рынках, бандитствуют в меру отведенного им бандитства, безобразничают и всячески врут, лгут и пыжатся? Они – не агрессоры, они – орудие агрессии. А завоевание нашего Мира происходит чуть выше, чем материальная сфера. То есть, в области Веры. Вера – мера могущества богов. Господь-творец подвергается давлению, прессингу и, вообще – агрессии со стороны иных, изначально непричастных к нашему Миру богов.
Так для меня через болезный интернационализм выплыл из тьмы в полутьму образ Самозванца. Интересный образ, поворот к белой горячке. Название книги оформилось, как «Ин Винас Веритас». Получи, подлый индус капитан Немо! Как дадим алкоголизмом по мещанству и тупому бахвальству гуков, тире, чурков! Мочи, как говорится, козлов!
Я писал свою вторую книгу и уже несколько неуверенно думал, что меня теперь-то обязательно издадут. Книга создавалась между двумя странами: Японией и Китаем. У меня возникало ощущение, что кроме ускоглазых парней и их подружек в мире больше никого не осталось. Японцы позволяли мне и прочим членам экипажа «Linge Trader» существовать, как неким исключениям из нормального японочеловеческого общества. И в Токио, и в Йокогаме степень пренебрежения к большим белым парням колебалась на уровне ледяной вежливости, приправленной бессмысленной улыбкой. Китайцы же вообще нас ни в грош не ставили.
И в одной, и в другой стране люди не читали книг! Самое большее, на что можно было рассчитывать в Японии – это на комиксы в характерном стиле: огромные с поволокой глаза, маленький носы и гримасы ртов, словно с фильмов Сталлоне. А как же интеллихенты? Ну, наверно, есть они, типа Кобе Або, но прочим неинтеллихентам читать некогда. Что за народ! Китай – вообще не в счет. Мне вообще казалось, что все там поголовно неграмотные, разве что знают написание слов каких-то инструкций из засаленных покет-буков.
Если этих узкоглазых азиатов на Земле большинство, то для кого тогда мои книги? Для меньшинства? Россиянские издательства не могут не гоняться за прибылью, а прибыль, в свою очередь, возможна при массовости интереса, то есть, интереса большинства. А большинство – это быдло, ну, и китайцы с японцами. Задумаешься, брат писатель!
Впрочем, чего думать? Писать надо!
И я писал. И читал. Анализировал и искал.
Время шло, я меньше морщился, подыскивая слова, я ждал мук творчества, но они не приходили. Можно было бы писать три-четыре-пять часов кряду, но приходилось ходить на работу, которая в условиях моего должностного минимума отнимала по 12 и больше часов в сутки. Приходилось экономить на сне, не писать мне уже было скучно.
То ли от вечного недосыпа, то ли от постоянной загруженности головы во время долгого бодрствования некоторые позиции «Ин винас веритас» начали отражаться на мне. Алкоголь я, вообще-то, на работе не пил, но ночные мультики, сваливающиеся неизвестно откуда на мою голову, вполне могли соответствовать пьяному угару.
Я чувствовал, порой, что я не один в каюте. Мне не было страшно, живые люди меня всегда пугали больше, нежели что-то нематериальное, но порой делалось неуютно. Из электронных гаджетов у меня был только вечно выключенный телефон, мертвый телевизор и мой друг – лэптоп. Электромагнитное поле не выбивалось из критических для человека норм, что в моей каюте, что в машинном отделении оно было одинаково. Но за мной определенно кто-то следил. Наверно, капитан Немо, не иначе. По приезду домой надо будет отыскать где-нибудь в олонецких трущобах братца-алкоголика Женьку и поделиться с ним байкой о своей «белочке» без вины. И без вина.
По древним поверьям, донесенным еще первым орфиком, который был никем иным, как Орфей, ну, или по-нашему, по-буржуински, лучшим кантелистом всех времен и народов, Вяйнямейненом, ангел смерти каждого человека всю жизнь ходит за своим подшефным чуть позади и пониже его левого плеча. Он, этот ангел смерти, в то же самое время является еще и ангелом хранителем. Его даже можно увидеть, если особо исхитриться. Ну, или не его самого, а хотя бы ангельские патры – то ли пряди волос, то ли такое вот ангельское украшение.
О проекте
О подписке
Другие проекты
