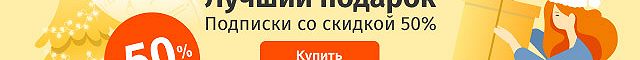
МОСКВА-река – левый приток (в дальнейшем: р., лп) Оки. Происхождение названия р. Москва издавна привлекает внимание исследователей. Для его объяснения в XIX–XX вв. предлагался ряд этимологии на базе финно-угорских, славянских и балтийских языков. В конце XIX в. историк В. О. Ключевский допускал объяснение Москва из языка коми, где «моек», «моска» – «телка, корова», а «во» – «река», т. е. «коровья река» в смысле «река-кормилица». В первой четверти XX в. историко-географ С. К. Кузнецов объяснял Москва из «мерянско-марийского» языка как «медвежья река», «медведица» (маска – «медведь», ава – «мать, самка»); акад. А. И. Соболевский, известный исторически не обоснованным распространением иранской этимологии на гидронимию Севера, считал, что Москва принадлежит скифскому языку, где означает «сильная гонщица, охотница», что якобы могло соответствовать быстрому течению реки. В то же время акад. Л. С. Берг под влиянием учения Н. Я. Марра связывал «Москва» с названием народа мосхи, жившего в древней Колхиде. Не останавливаясь на ряде других случайных объяснений, заметим, что все они, как и приведенные выше, отражают уровень топонимических знаний своего времени и совр. наукой не признаются.
В Географическо-статистическом словаре П. П. Семенова указывалось, что верхнее течение реки до болота Москворецкая Лужа, имело название Конопелька. Это указание словаря послужило основой для еще одной гипотезы о мерянском происхождении названия: в мордовском языке «конопля» – мушка, откуда реконструируется мерянское mosk с тем же значением, а из него производится Москва – «конопляная».
Пермскую гипотезу происхождения «Москва» выдвинул А. П. Афанасьев [1985]. В отличие от авторов ранее предлагавшейся пермской этимологии, которые не объясняли, каким образом термин коми ва – «река» проник в Волго-Окское междуречье, А. П. Афанасьев, используя всю совокупность совр. данных археологии и языкознания, показал принципиальную возможность нахождения прародины пермян на северной границе лесостепи Восточной Европы. В основе гидронима «Москва» он видит прапермский гидрографический термин «моск» с довольно широким спектром значений: «ключ, родник, источник, поток, приток» и т. п., и «ва» пермское – «вода, река», а в целом название осмысливается как «приток-река» (по отношению к Оке) или «река с притоком» (по отношению к Яузе и другим притокам). Действительно, названия многих значительных рек образованы терминами «большая река», «река», «приток» и т. п. Однако в последнее время популярностью стала пользоваться гипотеза крупного русского слависта Г.А. Ильинского, выдвинутая им уже 70 лет тому назад, согласно которой название «Москва» имеет славянское происхождение. В его основе праславянский корень моск, имевший значение «быть вязким, топким» или «болото, жидкость, влага, сырость». Этот корень известен в русских словах мозг, промозглый (о погоде), в словацком слове moskwa – «недосушенный (мокрый) хлеб, собранный с полей (в дождливую погоду)». Такое значение корня «моск» позволяет предполагать, что название «Москва» («топкая, болотистая, мокрая») возникло в ее самом верхнем течении, там, где она вытекает из болота Москворецкая Лужа. Впрочем, и в черте города река далеко не всегда была одета в гранит, – здесь известно и обширное урочище Болото, и Балчуг (тюрк. – «болото, грязь»), лежащие напротив Боровицкого холма, с которого и начинался город. Сочетание Москва-река, Смородина отмечено в одном из древних российских стихотворений, собранных Киршей Даниловым. Гидроним Смородина (от смрад), часто встречающийся в былинах, совмещается и с другими реками, в частности с рекой Черная Грязь. Однако трудно допустить, что до прихода славян эта крупная река оставалась безымянной. Поэтому более убедительна гипотеза о происхождении ее названия из балтийских языков, детально разработанная В. Н. Топоровым [1982]. Согласно этой гипотезе реконструируются варианты исходной балтийской формы названия: Mask-(u)va, Mask-ava или Mazg-(u)va, Mazg-ava, имеющие общее значение «нечто топкое, слякотное, мокрое, вязкое», совпадающее со значением, принимаемым при славянской этимологии. Но приведенные реконструированные формы допускают и иное толкование названия. Подобно тому, как русское «вяз» означает не только болотистость (от вязнуть), но и извилистость (ср. вязать, завязывать), балтийский корень mazg также означает и топкость, и извилистость (ср. литов. raazgati – «мыть», но mazgas – «узел»). Такое значение также подтверждается реалиями: в пределах совр. границ города коэффициент извилистости реки Москвы составляет 2,2 (75 км длины при 34 км расстояния по прямой), т. е. река вполне имеет право называться «извилистая». В пользу этой вполне реалистичной гипотезы косвенно свидетельствует и то, что названия притоков р. Москвы и ближайших к ней рек имеют также балтийское происхождение.
Ну что ж, поверим научным изысканиям, из которых мне ближе всего пермский вариант: основа – моск с довольно широким спектром значений: «ключ, родник, источник, поток, приток». Или балтийский – мазгаз – «узел», поскольку Москва не только причудливо вьется, распадаясь на клубки рукавов и пойменных озер (взгляните хотя бы на Ногатинскую пойму), но и является узлом водных дорог. Во всяком случае, я соглашаюсь с неуемными исследователями, которые отвергают с ходу толкование: топкое, болотистое место. Как можно главную артерию Страны источников, красавицу-реку с обрывистыми и холмистыми берегами, со строевыми борами на них, с чистейшей водой и изобилием рыбы сравнивать с болотом? А вот приток, узел – похоже: ведь Москва и сама является притоком и принимает множество других притоков.
Яуза в конце XIX века
Самый главный из них, конечно, Яуза, но и древнее городище-крепость, и Кремль возникли на впадении Неглинки или реки Неглинной в Москву-реку. Левый приток главной реки имеет длину всего 7,5 км. Речка начиналась из болота западнее Марьиной рощи. Протекая с севера на юг по самой центральной части города (по нынешним Стрелецкой и Новосущевской улицам), 3-му Самотечному переулку, пл. Коммуны (Суворова), Самотечному скверу, Самотечной площади, Цветному бульвару, Трубной площади, Неглинной улице, по территории, занимаемой ЦУМом и Малым театром, по Театральной площади и площади Революции, Александровскому саду вдоль Кремлевской стены), река имела большое значение для жизни Москвы: на ней располагались мельницы, кузницы, мастерские. Еще в начале XVIII века Неглинка была чистой рекой с шестью проточными прудами, которые служили резервуарами для разведения рыбы и тушения пожаров. Но уже к середине XVIII века с ростом населения Москвы и развитием промышленности Неглинка была сильно загрязнена. В 1816–1920 годах река от устья до Трубной площади (участок в 3 км) была заключена в трубу, остальной участок постигла та же участь к 1912 году. Однако коллекторы загрязнялись, не вмещали расходов воды и в половодье и паводки нередко затопляли прилегающие улицы. К 1966 году создано второе устье Неглинки – сооружен коллектор длиной около 1 км и диаметром до 4 м, который от района гостиницы «Метрополь» следует напрямую под Никольской улицей, Ильинской и Варваркой и сливает воды в реку Москву в районе разрушенной гостиницы «Россия» (почти на 1 км ниже старого устья у Большого Каменного моста, где в гранитной облицовке остался зияющий выход трубы).
Почти пятнадцать лет я проработал после окончания Литературного института на Цветном бульваре в редакции «Литературной России», где заведовал отделом поэзии, был членом редколлегии. Именно от этой редакции я стал много ездить по России и Подмосковью как публицист. Прочитав тогда «Мой Дагестан» Расула Гамзатова, я даже испытал обиду: почему не написано в поэтической манере такой же книги о Московии с преданиями, обычаями, легендами?..
А еще, конечно, мы ходили с братом и друзьями по берегу невидимой Неглинки в знаменитые Сандуновские бани. Они, как и переулок, были названы в начале прошлого века в честь знаменитой актрисы-певицы Сандуновой. Так их зовут теперь, так их называли и в пушкинские времена. По другую сторону Неглинки, в Крапивинском переулке, как вспоминает Владимир Гиляровский, на глухом пустыре между двумя прудами, были еще Ламакинские бани. Их содержала Авдотья Ламакина. Место было трущобное, как и вся округа, бани грязные, но, за неимением лучших, они были всегда полны народа.
Во владении Сандуновой и ее мужа, тоже знаменитого актера Силы Сандунова, дом которого выходил в соседний Звонарный переулок, также был большой пруд. Здесь в 1806 году Сандунова выстроила хорошие бани и сдала их в аренду Ламакиной, а та, сохранив обогащавшие ее старые бани, не пожалела денег на обстановку для новых. Они стали лучшими в Москве. Имя Сандуновой содействовало успеху: бани в Крапивинском переулке так и остались Ламакинскими, а новые навеки стали Сандуновскими.
«В них так и хлынула Москва, – вспоминает «король репортажей, – особенно в мужское и женское «дворянское» отделение, устроенное с неслыханными до этого в Москве удобствами: с раздевальной зеркальной залой, с чистыми простынями на мягких диванах, вышколенной прислугой, опытными банщиками и банщицами. Раздевальная зала сделалась клубом, где встречалось самое разнообразное общество, – каждый находил здесь свой кружок знакомых, и притом буфет со всевозможными напитками, от кваса до шампанского «Моэт» и «Аи». В этих банях перебывала и грибоедовская, и пушкинская Москва, та, которая собиралась в салоне Зинаиды Волконской и в Английском клубе. Ну, при нас публика была попроще, но и литераторы, и футболисты, и прочие знаменитости сюда захаживали. Через два века любимые бани для многих из нас стали недоступными по цене.
Еще в XIX веке Неглинка сделалась одной из основных торговых улиц Москвы: здесь были построены пассажи – Голофтеевский, Солодовниковский, Петровский. Теперь в них модные и тоже недоступные для многих бутики. В начале 1890-х годов было сооружено здание Госбанка (архитектор К. М. Быковский, флигели – И. В. Жолтовский).
На Неглинке находилась гостиница «Европа» (затем «Арарат») с самыми дешевыми из шикарных кафе и ресторанов – со старой мебелью, росписью и подушками на диванах. Это был первый ресторан, куда я попал с отцом и где впервые попробовал настоящие, а не нынешние ларечные чебуреки.
ВОДООТВОДНЫЙ КАНАЛ
В том месте, где заканчивается Крымская набережная (ее название происходит от бывшего здесь в старину двора, где останавливались послы Крымского хана), Москва-река, раздваиваясь, образует мыс, оформленный гранитными сходами-трибунами водноспортивной базы «Стрелка» (слева от нее – Водоотводный канал). Сооружение канала началось в 1783 году для того, чтобы в половодье воды Москвы-реки не разрушали опоры единственного тогда постоянного городского моста – Большого Каменного. Когда-то на месте канала была старица (древнее русло) Москвы-реки. Потом вся эта местность стала сплошным болотом, ежегодно заливаемым в половодье водой. Длина канала – 4 км, а ширина – от 30 до 50 м, при глубине около 2 м. Москвичи иногда, по старой привычке, называют его «канавой», но восемь красивых мостов и хорошеющие год от года набережные, облицованные гранитными плитами, делают Водоотводный канал настоящим украшением города.
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
Я праздную с родиной встречи,
И мне признаваться не лень,
В сиреневом Замоскворечье
Пятилепестково сирень
Цвела во дворах под церквами,
Где есть среди камня трава,
Где детство встает за словами:
Полянка, Ордынка, Москва.
Здесь жили такие предтечи —
Островский, Григорьев, Толстой, —
Что дара лишаешься речи
Один на один с красотой.
Пожалуй, без этой родины на берегах Обводного канала не было бы ни меня как литератора, ни личностного восприятия столицы, Москвы-реки и самого колоритного района мегаполиса.
«Я знаю тебя, Замоскворечье, имею за Москвою-рекой друзей и приятелей, и теперь еще иногда брожу по твоим улицам. Знаю тебя и в праздник и в будни, и в горе и в радости, знаю, что творится и деется по твоим широким улицам и мелким частым переулочкам», – говорил Александр Николаевич Островский.
Лучшая картина на Замоскворечье – музей под открытым небом – видна с Кремлевского холма. Самое точное описание с высоты птичьего полета и державного орла оставил Лермонтов в ученическом очерке «Панорама Москвы», где он запечатлел вид на Замоскворечье с колокольни Ивана Великого. Этот издревле обжитой район опоясан, как подковой, излукой Москвы-реки и параллельного ей Обводного канала, проведенного на месте естественного рукава. Выход к воде с трех сторон света и двойная водная преграда, которая отрезала его в половодье от остальной Москвы, поддерживало ощущение и построение какой-то особой слободской жизни, которая царила здесь с XVI века. Стрелецкая, Толмацкая, Овчинная, Кузнецкая, Садовническая слобода держались обособленно, каждая имела свое управление, главный храм, чтила свой праздник. Самой крупной была Кадашевская слобода, где жили царские ткачи и мастерицы полотняного дела. Жители слободы, поставлявшей ткани ко двору, имели особые привилегии и не несли налоговых повинностей. Потому и построили они самую роскошную и изящную церковь Воскресения в Кадашах – замоскворецкую свечу, вошедшую в мировые учебники архитектуры как образец московского барокко. Под ее сенью и вырастал я в конце двора по Кадашевской набережной, в полуподвальной квартирке с соседями. Двор моей школы был за полуразрушенной кирпичной стеной и частными сараями: ведь отопление было печное.
Наш двор по Кадашевской набережной, 26, состоял из нескольких небольших домов, а главный жилой двор с подворотней, выходящий на Обводной канал, был двухэтажным. Появился он, по-видимому, в последней четверти XVIII века. Известно, что в 1770-х годах в его нижнем этаже размещались лавки и блинная, а верхний (в ту пору деревянный) был жилым. Радикальной перестройке здание не подвергалось, что, безусловно, умножало его ценность. Необычайное единство всей застройки моей Кадашевской набережной объясняется не только единовременностью основных сооружений, но и общностью задачи для каждого владельца (после того, как был утвержден в 1775 году проект Водоотводного канала) придать набережной парадный вид, не теряя ее практического, житейского предназначения. Застройка, уникальная по сохранности, дошла до перестроечно-рыночных времен и что? Где общая для каждого владельца идея? Просто возвести новодел, покрасить его, как игрушечный домик, поставить охрану – самое простое. Лучшая часть Замоскворечья – омертвлена, никак не используется в туристско-социальных целях. Здесь по вечерам и в выходные – ни души, только иномарки по набережной просвистывают.
Композиционный центр Кадашевской слободы, шедевр московской архитектуры – церковь Воскресения, которая была построена в 1687 году на месте каменного же храма середины XVII века (так что и тогда ломали, реконструировали, но строили – более красивое и величественное) долгое время была в эпицентре войны за здания и территорию. Теперь храм одержал победу. На праздник Введения, 4 декабря 2006 года, состоялась официальная передача Церкви храма Воскресения Христова в Кадашах, в помещениях которого несколько десятилетий размещался знаменитый Реставрационный центр им. Грабаря (реставраторы переехали в помещения на ул. Радио, 17). Храм Воскресения Христова в Кадашах – уникальный памятник архитектуры конца XVII века в Замоскворечье, одна из важнейших высотных доминант центра Москвы в охранной и заповедной зоне Кремля.
ПРЕСНЯ
В сказке Петра Ершова «Конек-горбунок» есть такие строчки про довольного Ивана, который в одну ночь получил двух коней и конька:
И лишь только рассвело,
Отправляется в село,
Напевая громко песню:
«Ходил молодец на Пресню».
Уже тогда, в начале XIX века, была знаменитая песня про этот район Москвы, получивший свое название по главной речке, увы, сегодня – почти не видимой.
Памятка читателю
ПРЕСНЯ – левый приток Москвы-реки, в северной и центральной части города Москвы. Длина реки составляет 4,5 км. Уже в 1908 году она была полностью заключена в коллектор. Брала начало в болотах между местностью Бутырки и лесом Сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, протекала через пруд в Петровском парке, огибала ипподром, пересекала Белорусское направление Московской железной дороги, далее шла вдоль Малой Грузинской ул. по Новопресненскому переулку и вступала у Волкова переулка в старый зоопарк. Впадает в Москву-реку у Новоарбатского моста в районе Смоленской набережной.
Название реки известно с XVI века. Его причисляли к балтийским гидронимам, указывая прусское Персее, в Верхнем Поднепровье Персна и др.
Однако самое вероятное объяснение названия Пресня – из славянских языков. Оно имеет значение «пресная вода» (т. е. пресная по вкусу, несоленая, сладковатая); в русских говорах слово «пресноводье» относится к пресным водам: ключам, речкам. Московское название с этой основой не единично, ср., например, овраг Пресной в бассейне реки Мокши.
В других славянских языках сохранилось еще одно значение слова «пресный», ср. болгарское «пресен» («свежий, чистый, прохладный»). Если подобное значение некогда существовало и в восточнославянских языках, то гидроним Пресня можно было бы объяснять как «река с чистой водой». Стоит отметить, что в бассейне Пресни имелся источник Студенец, вода из которого считалась самой чистой и вкусной во всей Москве.
В XIX веке река часто назвалась Синичкой. Это распространенное название обычно связывают с обозначением цвета воды (синего): считается, что именно такое значение имеет современный гидроним Синичка, наименование реки на востоке Москвы, левого притока Яузы.
ПОРТ ПЯТИ МОРЕЙ
В пределы Москвы главная река столицы вступает на северо-западе, в районе Тушино, где раскинулась живописная Строгинская пойма (одна из улиц так и называется – Живописная), а покидает город в районе Капотни с ее нефтеперерабатывающим заводом и вечно горящим факелом попутного газа. На этом отрезке она принимает воды 70 малых рек и ручьев, большинство из которых заключено в подземные трубы. Наиболее крупные притоки – Яуза и Сетунь. На всем протяжении Москва-река полностью зарегулирована плотинами, а в черте города расположены 2 комплексных гидроузла: Карамышевский и Перервинский. Большая извилистость реки, четыре большие излучины – у Серебряного бора, у парка «Фили-Кунцево», в районе Лужнецкой и Краснохолмской набережных – не только увеличивают протяженность Москва-реки в 2,5 раза (по сравнению с расстоянием по прямой), но и создают неповторимый облик столицы, расположенной в ее долине. Самая узкая часть реки – в районе Кремля, где она сжата могучими гранитными набережными, а самая широкая – в районе Южного порта, где она подперта Перервинской плотиной. Глубина реки изменяется от 2 до 12 метров, что позволяет ей быть судоходной. Нельзя забывать, что Москва-река – порт пяти морей.
У Лужниковской поймы, возле станции метро «Спортивная» красуются постройки Новодевичьего монастыря. Престольный праздник здесь 10 августа (28 июля по ст. стилю), когда Церковь чествует Смоленскую икону Пресвятой Богородицы (Одигитрии). По преданию, она была написана евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы. В 1237 году Смоленск, где тогда находилась икона, предстательством Пресвятой Богородицы был спасен от татарских орд. Икона не раз спасала этот город от нашествий иноплеменников, была перевезена в Москву, но смоляне упросили великого князя Василия Темного вернуть святыню. Москвичи провожали икону Одигитрии две версты и в 1524 году построили на месте расставания Новодевичий монастырь. В 1812 году икона постоянно была в действующей армии, перед Бородинским сражением ей отслужили молебен.
Древнейшая постройка Новодевичьего монастыря – собор в честь Смоленской иконы Божией Матери, возведенный в 1524–1525 годах. Иконы его в большинстве своем относятся к концу XVI века. В местном ряду помещены иконы XVI–XVII веков. Среди них – Смоленская икона Божьей Матери – чтимый список с чудотворного образа, икона Господа Вседержителя работы Симона Ушакова.
В XVI веке монастырь пережил два набега крымских татар. В 1598 году в монастыре поселилась вдова царя Феодора Иоанновича царица Ирина Годунова, пожелавшая принять монашество. Во время Смутного времени монастырь сильно пострадал.
В октябре 1605 года Лжедмитрий I «взял в долг» из монастырской казны огромную по тем временам сумму – три тысячи рублей. В 1611 году монастырь был ограблен и сожжен.
О проекте
О подписке
Другие проекты





