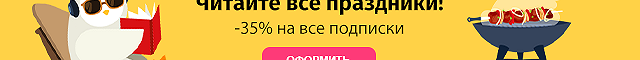
Юзеф Игнаций Крашевский
Саксонская трилогия
Иосиф Игнатий Крашевский
Сегодня истекает 25 лет со дня смерти[1] плодовитейшего польского беллетриста И. И. Крашевского. Через три дня будет сотая годовщина со дня его рождения, – таким образом текущий год собрал конец и начало этого 75-летия трудовой, упорной жизни, сыгравшей крупную роль в истории польской литературы и общественности.
Сотни томов – романы, повести, стихи, критические статьи, исторические монографии – вот богатый вклад Крашевского в польскую литературу. Но главные его заслуги две: вытеснение из обывательского обихода французского романа и введение в художественное творчество героев из непривилегированной среды.
Еще в одном из первых своих романов Крашевский спрашивает: «Почему никто из авторов не пишет для низших классов людей?». И он сам начинает писать так, чтобы сделаться доступным этим низшим классам. Его ранние повести, например, «Большой свет маленького местечка» или «Дважды два – четыре» кишат мещанами, ремесленниками, безродной интеллигенцией. Шляхта, привилегированная часть общества, перестает быть монопольным объектом романиста, а потому и самый роман делается доступнее и ближе непривилегированным слоям. И это общение писателя с среднемещанским слоем остается прочным на всю его жизнь. Сколько ни колебался он в своих политических взглядах, сколько ни делал ошибок в своих шагах ка общественном поприще, здесь, в литературе, у себя дома, он был последовательным проводником того гуманизма, который так свойственен эпохам «органического груда», когда каждый человек оценивается по его трудоспособности и полезности, и всякие кастовые перегородки, основанные только на родовитости, на привилегиях рождения или родства, кажутся вредными и подлежащими уничтожению. И Крашевский всю жизнь, и чем дальше, тем энергичнее, боролся с непроизводительными, тунеядными классами польского общества. Разложение и вырождение аристократии, упадок шляхетства, противопоставление им трудового мещанства и крестьянства – вот вечно повторяющаяся тема его повестей. Естественно было, что по мере разложения старого общества – а при жизни Крашевского польское общество успело коренным образом переродиться – жизнь давала все более яркий материал для обличительного творчества писателя.
На ряду с художественной деятельностью, Крашевский все время не переставал заниматься и деятельностью общественной, то как сотрудник политической газеты, то как редактор или издатель, то даже как «земец». В непрекращающейся борьбе двух течений: реакционно-шляхетского и демократически-прогрессивного, Крашевский старался занять «золотую середину». Это ему не всегда удавалось. Постоянно боясь «крайностей» демократов, он невольно попадал в лапы реакционеров. 1 f-к, он сближается к началу 40-х гг. с реакционером Г. Ржевусским, с католиком М. Грабовским, Головинским и др. и основывает журнал «Атеней». Но по своим основным взглядам Крашевский не мог прочно связаться с мертвецами старо-шляхетской Польши. Уже в 1844 г. он рвет с реакционной компанией и, хотя в 1849 г. встречается с Ржевусским в «Петербургском Еженедельнике», но уже в 1 850 г. опять уходит из этой газеты.
Когда со вступлением на престол Александра II поднят был крестьянский вопрос, Крашевский в качестве волынского помещика представил Волынскому комитету свою докладную записку. Она очень характерна для умеренно-мещанского мировоззрения его. Он разделяет два вопроса: о личном освобождении крестьян и о наделении их землей. Первый вопрос он считает бесспорным, но советует производить освобождение осторожно, постепенно, не выпуская крестьянина из-под опеки «ради его собственного блага». По второму вопросу он находит, что «земля есть собственность помещика, а крестьянки есть свободный работник на ней». Если бы не хватило работников на земле, шляхта погибла бы, а с ней и цивилизация, ибо она – единственная носительница цивилизации. Ему неясно еще, следует ли наделить крестьян только усадебной землей или же дать им в аренду также и часть пахоты, несомненно только, что то, что им отрежут, должно сделаться их бесспорной собственностью после нескольких или нескольких десятков лет опеки и надзора. При этом он рекомендует учредить для крестьян «принудительный прием» на работу. «Крестьянину немного надо, – говорил он, – но необходимо религиозное просвещение, христианское образование, проникновение духом любви, труда и самопожертвования. Это типичная точка зрения новомодного помещика, жаждущего от «великой реформы» получить и землю и дешевые рабочие руки. Но характерно, что волынским зубрам записка Крашевского показалась чересчур либеральной.
Накануне восстания 1863 г. Крашевский жил в Варшаве, где редактировал «Польскую Газету». В период манифестаций, предшествовавших восстанию, он опять попал в критическое положение человека «золотой середины». К счастью для него в январе 1863 г., т. е. за несколько дней до открытой борьбы, правительство Велепольского частным образом посоветовало ему уехать за границу. Он уехал в расчете на путешествие в несколько месяцев, но уже больше не вернулся на родину.
Крашевский поселился в Дрездене. События в 1864 г. еще больше разочаровали его в жизнеспособности дворянства, и он все сильнее склонялся в своих симпатиях к средним классам. Вместе с тем чисто моральная тенденция захватила его полке и стала доминирующей в его повестях. На ряду с целым рядом новых романов, он занялся громадной работой – изображением в повестях всей истории Польши, от Пяста до XVIII века. Но эта работа имела меньше успеха. Принижение исторических личностей, которое вытекало из всего его миропонимания, и мрачные краски, которыми он рисует прошлое, не соответствовали настроению польского общества, только вынесшего поражение в борьбе и склонного к «нас возвышающему обману».
В 1879 г. Крашевский пережил то, что выпадает в удел редкому писателю – по крайней мере, при жизни. Польское общество праздновало его золотую свадьбу с литературой. Это торжество наглядно показало, насколько близок был Крашевский «массе» общества, именно «среднему классу», тому мещанству, которое народилось из развалин шляхетства и новообразований капитализма. Апофеоз певца «золотой середины» был инсценирован в Кракове, в историческом зале «суконных рядов». Но, увы, совершенно неожиданно «кончился пир бедою». Когда Крашевский, утомленный чествованиями, пробыл лечебный сезон во Франции и возвращался оттуда к себе в Дрезден, он был в Берлине арестован и заключен в тюрьму Моабит. Против него было возбуждено следствие по обвинению в государственной измене. Это известие ошеломило польское общество.
Дело было в следующем: Крашевский, очень далеко стоящий от военного мира, попал в руки шантажиста, некоего Адлера, который доставлял через него военные корреспонденции во французские газеты. Когда Крашевскому объяснили, что это предприятие может быть истолковано превратно, было уже поздно. Тот же Адлер донес на него, и Крашевский был отдан под суд, который приговорил его к трем с половиной годам крепости. Хлопоты влиятельных лиц, даже итальянского короля Гумберта, не могли смягчить участи 72-летнего старика. Только в 1886 г. удалось получить, под залог в 22 тыс. марок, 6-месячный «отпуск» Крашевскому для поправления здоровья. Но готовые уже разрешения протянули с мая до октября, а 19 марта 1887 г. Крашевский умер в Женеве. Гакатистская[2] политика Бисмарка не могла обойтись без этого удара ослиным копытом по больному, умирающему старику.
Крашевский не был гением, не был и выдающимся. пламенным талантом. Это был умный, способный, даровитый писатель-труженик, распахивавший, в меру сил своих, тяжелую новь польского романа. Своей работой он подготовил в умах почву для течения, которое под именем «органического труда» развилось особенно сильно после 1864 г., – течения, вызванного явной победой капитализма в польском хозяйстве.
Конечно, для нашего времени и мировоззрение Крашевского и его творчество утратили большую долю своего значения и интереса. Но для своей эпохи он был большой величиной: попробуйте вынуть эту фигуру из истории польской общественности и литературы – и вы увидите, какая громадная дыра останется там.
Вацлав Воровский1912 г.
Графиня Козель. Том первый
1
Королевский замок в столице Саксонии словно вымер: в нем было тихо, мрачно и уныло. Ночь стояла осенняя, хотя обычно в конце августа листья едва начинают желтеть, холодные ветры дуют редко, дни бывают еще погожие, а ночи ясные и теплые. Но в тот вечер подуло вдруг с севера, и огромные тучи, черные, рваные, тянулись одна за другой, а редкие звездочки загорались и тут же гасли.
У Георгентор в воротах замка и во дворе шагала взад и вперед безмолвная стража. Освещенные всегда окна королевских хором, откуда струились в изобилии свет и музыка, были сейчас темны и затворены. А это было явлением необычным во времена царствования Августа, прозванного «Сильным», потому что сила его проявлялась во всем – он гнул железо, сгибал людей, одолевал тоску и напасти, его же ничто сокрушить не могло. На всю Германию, да что, на всю Европу славился блестящий королевский двор, перед которым меркли все остальные: не было равного ему по великолепию, изысканности и расточительности.
Однако в нынешнем году Август II потерпел поражение. Швед лишил его польского престола, на который он был избран. Низвергнутый, можно сказать, с трона, изгнанный из королевства, Август вернулся в свое курфюрстское гнездо оплакивать потери, загубленные зря миллионы и черную неблагодарность поляков. Саксонцы недоумевали, как можно не боготворить такого великодушного и милого государя и не жертвовать ради него головой.
Август недоумевал больше всех. Слово «неблагодарный» сопутствовало всякому упоминанию о поляках, и, в конце концов, в присутствии Августа стали избегать разговоров об этой стране, о шведском короле и обо всех последних неудачах. Август же Сильный дал себе слово когда-нибудь вернуть былое могущество.
Дрезден после возвращения короля предался развлечениям, дабы утешить его, но нынче в замке стояла непонятная тишина. Почему? Никто не знал. Ведь король еще не отбыл ни в одну из своих резиденций, да и ярмарка в Лейпциге еще не открылась; к тому же ходили даже слухи в городе и при дворе, что Август назло шведу собирается устраивать балы, карусели, маскарады, чтобы доказать ему, что не слишком близко принимает к сердцу временное свое поражение.
Редкие прохожие, поравнявшись с замком, взглядывали на окна и удивлялись, почему так рано у короля воцарились тишина и тьма. Но если бы кто-нибудь из них, миновав большие ворота и первый двор, проник во второй, он бы убедился, что замок лишь кажется вымершим, внутри же в нем бурлит жизнь.
Стража не пускала туда никого.
На втором этаже окна, несмотря на ветер, были настежь растворены, за приспущенными занавесями сиял яркий искрящийся свет, отражавшийся во множестве зеркал, в зале время от времени взрывался гомерический смех; вылетая во двор, он пугал стражу и, ударившись о серые стены, замирал еле слышным эхом. Смеху вторил гул, он то ослабевал, то усиливался, потом переходил в бормотанье и вовсе затихал. Вдруг, как бы после чьих-то слов, срывались рукоплескания и снова гремел смех, царственный, раскатистый, ярый смех человека, не боявшегося услышать в ответ колкость и язвительную насмешку. При взрывах безудержного хохота стражник, расхаживавший под окнами с алебардой, останавливался, поднимал голову и, вздохнув, снова опускал ее долу.
Что-то жуткое было в этом ночном пиршестве под вой свирепого вихря в мертвом замке и затихшей столице.
Там веселился король.
Со времени его возвращения из Польши такие ночные пиршества в узком кругу наперсников (назовем их приятелями) стали явлением обычным. Август Сильный, побежденный чудаковатым, слывшим недоумком, Карлом XII, стыдился показываться на многолюдных сборищах, но без празднеств и забав он жить не мог и потому ограничил себя небольшим кругом приближенных. На стол ставили венгерское золотистое вино, за которым каждый год посылался нарочный в Венгрию, наполняли кубки и пили до самого рассвета, до той минуты, пока, заснув, не валились со стульев, пока разгулявшегося короля придворный не уводил под руку в опочивальню и не укладывал в постель.
В круг избранных жрецов мадьярского Бахуса допускались немногие: только верные и преданные, только фавориты, ибо король (так говорили) после нескольких кубков вина становился опасным для тех, кого не выносил. Сила у него была геркулесовая, гнев олимпийский, а власть неограниченная. Днем, стоило ему разгневаться на кого-нибудь, лицо его сразу вспыхивало красным заревом, глаза сверкали, губы дрожали, и он отворачивался, чтобы не видеть того, кто вызвал в нем гнев. Но вечером, после возлияний, не один приближенный был выброшен из окна и, упав на камни мощеного двора, уже не поднимался более. Так говорили люди. Вспышки гнева у короля были редкими, но страшными, как гром небесный.
В обыденной жизни трудно было найти человека более покладистого, приятного и обходительного. Люди замечали даже, что чем хуже он к человеку относился, тем ласковей была припасенная для него улыбка, а перед тем как сослать кого-нибудь из своих фаворитов в Кенингштейн, нередко на десятки лет, Август сжимал его в объятиях, как лучшего друга. Такая уж это была благородная натура – во что бы то ни стало хотелось ему смягчить уготованную людям тяжелую участь.
Но без развлечений Август обойтись никак не мог, что ж удивительного, если приводили к нему для потехи двух медведей и стравливали их, а то подпаивали двух завзятых врагов, чтобы они друг с другом грызлись. Развлечения такого рода очень по душе были королю, и, когда Вицтумы, Фризены или Гоймы, выпив, принимались яростно поносить друг друга, король надрывался от хохота. Что и говорить, невинная то была забава.
А стравить своих приближенных королю ничего не стоило, ведь он знал о них всю подноготную: кто кого любит, кто кого ненавидит, кто незаконно взял деньги из казны и сколько; даже в тайные замыслы придворных проникал король, а если и не знал о них, то догадывался. Тщетно было ломать голову над тем, кто выдавал ему это, кто нашептывал и доносил. В конце концов, люди переставали верить друг другу, брат боялся брата, муж таился от жены, отец опасался сына, а король Август Сильный потешался над всем этим сбродом. Он взирал с высоты своего величия на комедию жизни, не пренебрегая в ней олимпийской ролью Юпитера, Геркулеса и Аполлона, а по вечерам Бахуса.
В тот вечер королю было грустно и тоскливо, и, чтобы хоть немножко рассеяться, он решил напоить своих министров, фаворитов и придворных и заставить их исповедаться перед ним.
Посередине освещенного зала, одну стену которого занимал сверкавший хрусталем и золотом буфет с возвышавшимся на нем серебряным в золотых обручах бочонком, стоял длинный стол. За ним сидели верные товарищи королевских забав – граф Тапарель Ланьяско из Рима, Вакербарт из Вены, затем придворные – Вацдорф, прозванный «мужиком из Мансфельда», Фюрстенберг, Имгофф, Фризен, Вицтум, Гойм и, наконец, бесподобный шутник, с виду угрюмый и серьезный, но способный рассмешить даже мертвого – Фридрих Вильгельм барон Киан.
Король сидел в распахнутом на груди камзоле, опершись на локоть, погруженный в невеселые думы. Его красивое, обычно сияющее лицо омрачалось нахлынувшей грустью. Перед ним стояла опорожненная чаша. По пустым бутылкам можно было догадаться, что пиршество длится давно, но действие божественного напитка не отразилось на лице короля. Янтарная влага не расцветила его черных мыслей.
Придворные состязались в балагурстве, стараясь развлечь короля, но и это не помогало. Август сидел, задумавшись, и ничего, казалось, не слышал. Такое с ним редко случалось, он любил веселиться и жаждал развлечений. Обеспокоенные придворные исподтишка поглядывали на короля.
На противоположном конце стола сидел невзрачный угрюмый Киан; словно в подражание королю, он тоже оперся на руку, вытянул ноги и, возведя очи горе, вздыхал. Вид у него был до смешного грустный.
– Послушай, – зашептал Фюрстенберг, подтолкнув локтем Вакербарта (оба были уже навеселе), – взгляни на его величество. Плохи дела, сегодня что-то не удается развеселить его, а ведь одиннадцатый час, пора бы ему уже быть в радужном настроении. Наша вина…
– Я тут ни при чем, я гость, – возразил Вакербарт, пожав плечами, – вы его лучше знаете, вам и карты в руки.
– Дело ясное, Любомирская ему наскучила, – отозвался Тапарель.
– Ну, говоря по правде, шведов тоже не так-то легко переварить, – прошептал чуть слышно Вакербарт. – Меня это не удивляет.
– Э! Шведов! Мы и думать про них забыли, кто-нибудь побьет их за нас, а мы будем плоды пожинать, – продолжал, постукивая по рюмке, Фюрстенберг, – не в шведах дело. Он Любомирской сыт по горло, пора ему другую подыскать.
– Разве это так трудно? – шепнул, пожав плечами, Вакер-берт.
– Эх, надо было вам из Вены вторую Эстерле привезти, – засмеялся Ланьяско.
И придворные стали шептаться совсем тихо; король, пробудившись, казалось, ото сна, обводил всех глазами, но вот взгляд его остановился на развалившемся в трагикомической позе бароне Киане, и Август громко расхохотался. Весь зал подхватил его смех, хотя добрая половина присутствующих понятия не имела, по какому поводу государь изволил смеяться. Только Киан не шевельнулся, не дрогнул.
– Киан, – воскликнул король, – что с тобой? Неужто любовница изменила? Или ты остался без гроша, или враг тебе на пятки наступает? Ты похож на Прометея, которому коршун печень клюет.
Киан повернулся, словно кукла, и тяжело вздохнул. Половина из шести свечей в стоявшем рядом канделябре погасла от его вздоха, и дым разошелся по комнате.
– Киан, что с тобой? – спросил снова король.
– Ваше величество, – ответил барон, – со мной ничего не случилось. Я не голоден, не влюблен, не в долгах, не ревную, но я в совершенном отчаянии.
– В чем дело? Говори! – приказал король.
– О горестной судьбе досточтимого нашего монарха скорблю я, – с серьезным видом промолвил Киан, – да, да! Лик у тебя божественный и сила геркулесова, возвышенное сердце и несокрушимое мужество; ты рожден для счастья, для того, чтобы весь мир лежал у ног твоих, а между тем ты ничем не владеешь.
– Да, это верно, – произнес Август, нахмурив брови.
– Нас тут пятнадцать человек, а как развеселить тебя – не ведаем, любовницы изменяют тебе и стареют, вино прокисает, деньги у тебя воруют, а когда вечером ты рад бы отдохнуть в веселой компании, верноподданные сидят пред тобой с похоронными лицами. Разве удивительно, что я, преданный твой слуга, прихожу в отчаяние?
Август усмехнулся, схватил дрожащей рукой кубок и стукнул им о стол. Из-за буфета тотчас выскочили два карла, похожие как две капли воды друг на друга, и вытянулись перед королем.
– А ну-ка, Трамм, – приказал Август, – вели подать бутыль с амброзией! Киана назначаю виночерпием. Вино, что мы пили, было разбавлено водой.
Амброзией называли королевское венгерское, которое для Августа сам Зичи из наиотборнейшего винограда приготовлял; это было всем винам вино, густое, как сироп, обманчиво сладкое и нежное, но способное свалить великана.
Трамм с товарищем исчезли, а минуту спустя появился черный мавр в восточном одеянии, с огромной бутылью на серебряном подносе. Все встали и поклоном приветствовали его; король наблюдал.
– Киан, хозяйничай, – приказал он.
На этой странице вы можете прочитать онлайн книгу «Саксонская трилогия (сборник)», автора Юзефа Игнация Крашевского. Данная книга имеет возрастное ограничение 12+, относится к жанрам: «Зарубежная классика», «Литература 19 века». Произведение затрагивает такие темы, как «авантюрные приключения», «исторические личности». Книга «Саксонская трилогия (сборник)» была издана в 2018 году. Приятного чтения!
О проекте
О подписке
Другие проекты