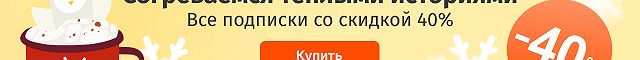Сегодня я написал бы эту книгу иначе. Уж наверное, она была бы трезвее, добрее, сдержанней, выверенней, справедливей — и ближе к тому, чему-то такому, что принято называть объективной истиной.
Это послесловие к книге, не похожей ни на что остальное. Хорошо, что она написана не "сегодня". Будь бы эта книга добрее и (особенно!) сдержанней, я бы, наверное, не смогла полюбить благодаря ей Маяковского. Хотя, судя по другим рецензиям, многим из тех, кто уже им восхищался, книга не слишком понравилась. В чём тут дело?
Наверное, в том, что протяжении всей книги Карабчиевский ругает самого Маяковского, не отрицая, впрочем, его таланта. И постоянно в его речи мелькают слова "у нас". У кого - у нас? У него вызывает страх "механичность, схематичность" поэзии Маяковского, ему кажется, что живое в этих стихах подменено сконструированным, что их писал какой-то "электронный мозг".
А для меня футуризм как раз и ассоциируется с некой искусной конструкцией, с людьми, у которых в жилах течёт не кровь, а электрический ток, с фантастическим миром, где, как в некоторых антиутопиях, разум властвует над чувствами. Но именно это и поражает своей грандиозностью. Именно это - красиво. Как и практически любая модель мира, где отсечено всё лишнее, остаётся нечто отвлечённо идеальное, кого-то пугающее, кого-то - восхищающее. Маяковский сам в этой книге чем-то напоминает антиутопию, которую при желании, если взглянуть под другим углом, можно провозгласить утопией. И ни та, ни другая точка зрения не будет ошибочной.
Маяковский никогда не смеялся.<...>Он иногда улыбался, довольно сдержанно, чаще одной половиной лица, но никогда не смеялся вслух, тем более — весело. Веселый смех означает расслабленность, что совершенно было ему не свойственно, как и всякое естественное, неподконтрольное движение.
Превратили Маяковского в киборга, в искусственный интеллект, которому неведомы простые человеческие чувства. Или, как называет его Карабчиевский, в "чугунно-бронзового идола на гранитно-мраморном пьедестале". Но мне об этом говорить бессмысленно. Было у меня как-то хорошее настроение, так ко мне подошли и спросили, чего это я такая грустная... Правда, сомневаюсь, что Маяковский не смеялся вообще ни разу в жизни - это уже гиперболы Карабчиевского, он на них не менее щедр, чем, пожалуй, даже сам Маяковский!
Благодаря всё тому же Карабчиевскому, я взглянула совершенно другими глазами на поэму "Про это". Загадочно говорится в книге об этой поэме:
И странную поэму написал Маяковский за эти два месяца ссылки в уединение. Казалось бы, она действительно «про это», а вчитаешься — все-таки больше про другое. Недаром ее тема впрямую не названа. «Про что что, про это?» — спрашивает автор и слово любовь, подсказанное рифмой, зачем-то заменяет многоточием. Не затем ли, чтоб допустить возможность и другого, нерифмованного ответа.
И этот крик, срывающийся со страниц поэмы, это стремление к бессмертию во что бы то ни стало, к воскрешению - это красота. Это футуризм, я думаю, в его лучшем воплощении. И ещё в строках произведения звучит что-то такое искреннее и печальное, что Карабчиевский упорно ищет только в знаменитой "Лиличке!".
Что до любви Маяковского, которой посвящена немалая часть книги, если говорить про эти "миллионы огромных чистых любовей и миллион миллионов маленьких грязных любят", то мне хочется верить: любовь у Маяковского была чем-то большим, чем просто любовью. Или, с другой точки зрения, чем-то меньшим. Но обязательно - другим.
А в конце книги Карабчиевский вообще заявляет:
Нео Маяковский, ты Избранный!
Хотя от пули Маяковскому увернуться не удалось... Но, в конце-то концов, не зря же книга называется "Воскрешение Маяковского"?