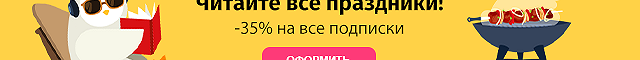
В. П. Череванский
Любовь под боевым огнем
© ЗАО «Мир Книги Ритейл», 2012
© ООО «РИЦ Литература», 2012
* * *
Часть первая
Хотя собирательный разум человечества работает беспрерывно над смягчением нравов всемирной общины, но – увы! – и он отступает пока перед сложностью вопроса о замене стального клинка веткой оливы.
Заметка неизвестного после штурма 12 января 1881 г.
Нанесенные мне поражения не изображай выигранными мною победами.
Наставление Наср-эд-Дин-шаха придворному историку
Язык мой – трость скорописца.
Исай. II
I
В 188* году разлив Волги был необычайный. Благодаря избыткам своих данниц – Оки, Суры, Камы, Ветлуги и их младших сестер она покрыла всю луговую сторону неоглядным морем. В этой нахлынувшей хляби скрылись сотни островов. Об их существовании свидетельствовали одни лишь вершины деревьев, клонившихся по направлению волны и ветра. Но и стихийный натиск не умалил величавости горного берега. Зольные горы, а южнее их Ундаровские, Городищенские и Печорские гордо отталкивали волну у своих подножий и заставляли ее рассыпаться в туче брызг и пылинок.
Минуя Девичий Курган и Двух Братьев в Жигулях, Волга направляется мимо возвышенного плато, на котором белеют зубчатые стены обители Святой Варвары. Все Поволжье чтит эту обитель. Она издревле отличается строгим обиходом. Подвижничество ее инокинь составляет своего рода гордость православных мирян перед окрестными черемисами и другими потомками Золотой Орды.
Основание обители теряется в глубокой древности. Перед строгими ликами дониконовского письма склонялись в обители все, кто чем-нибудь известен в истории Поволжья. Здесь и нижегородские князья почтительно снимали свои шеломы, и новгородские ушкуйники отмаливали молодецкие потехи. Здесь и Ермак, и Кольцо, будучи еще воровскими людишками, благословлялись на сибирский промысел. Под ее стенами проходили струги и Стеньки, и Булавина, и пугачевщина, но и толпы необузданной вольницы шли далее – «без разбоя и со крестами на святые маковки».
Задолго до приближения к монастырю на галерее бежавшего с верховья «Колорадо» показались два пассажира, совершавшие, по-видимому, не первую прогулку по Волге. Им были известны и Караульный Бугор, и Молодецкий Камень, и Моркваши. Обмениваясь по временам замечаниями насчет безлюдья этой части реки, они зорко всматривались вдаль и немножко сердились на медленный бег парохода.
Старший из них, Борис Сергеевич Можайский, представлялся интеллигентом средних лет с теми самоуверенными приемами, которые свидетельствуют об устойчивости ясно и строго определившихся взглядов на базар житейской суеты. В постановке его головы, приближавшейся к львиному типу, и в огоньках зрачков, вскидывавшихся несколько повелительно, проявлялась внушительная сила. При этом вся его фигура дышала естественностью без малейшей подрисовки. Натуры такого типа крепко хранят свой обычный девиз «никому обиды и ни от кого обиды».
Спутником его был Яков Лаврентьевич Узелков, племянник его по сестре, симпатичный юноша, только что выпущенный в свет с чином поручика, а следовательно, и с надеждой на фельдмаршальский жезл. Отлагая к будущему погоню за жезлом, ради которого нужно многое совершить, Узелков отдался мирному созерцанию развернувшейся перед ним картины. Она была величественна до того, что, поравнявшись со стенами монастыря, восторженный поручик приветствовал его ариею Вани – «Монастырь крепко спит… Отворите!».
Но и звуки любимой арии не вывели Можайского из тяжелой задумчивости. Он не отводил бинокля от стен обители.
– Судя по этим березам, которые так приветливо кланяются нам из-под воды, мы плывем над Заячьим островом, – сообщил Узелков, пытаясь вывести дядю из тяготившей его думы. – Теперь недалеко и Княжой Стол.
Дядя отмолчался.
– А вот и Княжой Стол, и Гурьевка.
– Княжой Стол от нас не уйдет, а ты не суетись, как кадет на свободе. Пора бы тебе…
– Дядя, позволь свистнуть.
– И свистеть не нужно, успокойся. Антип и без свистка выедет навстречу. Да вот и «Подружка» видна.
Княжим Столом называлась скала, выдвинувшаяся с берега в реку в форме усеченного конуса. На ее площади красовался старинный барский дом, переходивший со времен Грозного из рода в род князей Гурьевых. По ребру горы извивается высеченная лесенка, приводящая к террасе, обрамленной живой изгородью. У подошвы скалы качалась в ту пору маленькая усадебная пристань.
Едва пароход умерил ход, как у его трапа очутилась лодка, причаленная рукой опытного волгаря. Правда, он походил скорее на обеденный ракитовый куст, но по его сноровке никто не отказал бы ему в звании присяжного лоцмана.
– Бесчувственный, все ли здоровы? – выкрикнул Узелков, перегибаясь за борт парохода.
Антип, с которым срослось прозвище Бесчувственного, молча и бережно принял пассажиров и их багаж.
– Как здоровье княжны Ирины? – продолжал допытывать Узелков.
– По порядку следовало бы спросить прежде о здоровье князя Артамона Никитича, а потом уже о княжнах, – наставительно заметил Антип, торопясь отвалить от парохода. – Князь Артамон Никитич изволит здравствовать, княжны также в своем здоровье.
– Ждали нас? – спросил Можайский.
– С вечера заказано стеречь «Колораду» и беспременно принять вашу милость, Борис Сергеевич, и кадетишку также…
– Антип, не забываться! – скомандовал бывший кадетишка.
– Мне зачем забываться? Мне забываться не надо.
– Куда девался Заячий остров?
– Поживите, проявится.
– А выводки есть?
– Да куда же им запропаститься?
Ворчливое настроение не мешало Бесчувственному любовно вглядываться в свежие погоны Узелкова, с которым он исхаживал по летам все окрестные трясины и болотины в поисках куликов. Юноша первоначально понравился ему исключительно за крепкие зубы, которыми он дробил превосходно деревенские сухари, а потом полюбился и за многое другое, а главное за свое круглое сиротство.
Гурьевку знают не одни природные волгари, но и те чуткие натуры, которым незначительный край утеса, эффектно позолоченный заходящим солнцем, дороже беляны, нагруженной лубьем и ободьем. Эти странные люди, богатые по преимуществу надеждами на славу, всегда находили радушный прием и услугу на площадке усадьбы, откуда открывался грандиозный вид на громадную площадь Поволжья.
Над рекой виднелся только барский дом, усадьба же скрывалась за пролеском. Дом отличался европейским комфортом, но не мраморы и позолоты, которыми обзаводятся богатые волгари, были его украшением. Хорошо подобранная библиотека и башенка с единственной, кажется, в России частной обсерваторией составляли гордость старой Гурьевки.
Владелец Княжого Стола и Гурьевки принадлежал к сектантам – не по вероучению, разумеется, а по обиходу жизни, по складу ума и по движению сердца. Получив в наследство запутанные дела, он не побывал ни в одной приемной с просьбой о сбавке опекунского процента. Одно время он стоял довольно близко и к водяным и к железным сообщениям и все-таки не провел дорогу за казенный счет в свое имение. При всех достоинствах стилиста из-под его пера не вышло ни одного трактата о необходимости трехэтажного наблюдения за душами и сердцами сограждан. Вообще семья чистых людей считала его сосудом своего багажа и уклада…
По наружности князь Артамон Никитич, отличаясь широкою костью и общим дородством, выглядел солидным кряжем. Его умные глаза, казалось, постоянно искали человека, чтобы подарить ему нечто приятное.
– Милые, славные, хорошие! – восклицал он, обнимая своих дорогих гостей. – Вот как ты шагнул, прямо в поручики! – обратился он к Узелкову, любуясь им как родным сыном. – Только зачем же ты приподнимаешь плечи так высоко… опусти пониже… пониже, вот теперь и естественно, и красиво. Отдохните, господа, с дороги, а потом и к завтраку… Сила Саввич, проводи гостей во флигель.
Сила Саввич – заслуженный дворецкий, державший в доме князя все распорядки, – принял Можайского и Узелкова без свойственного ему покровительственного вида. Напротив, заявив намерение служить, а не награждать, он лично водворил их в приготовленные комнаты.
– Завтрак в двенадцать! – Единственно этим напоминанием он проявил свою власть.
Перед завтраком Можайский и Узелков сошлись на балконе с видом на обитель Святой Варвары.
– Дядя Боря, почему князь проживает безвыездно в этой глуши? – спросил Узелков с некоторой таинственной осмотрительностью. – Правда ли, что ему воспрещен въезд в столицу?
– Неправда, – ответил коротко Можайский.
– Однако же факт налицо: он и лето и зиму коротает на этом утесе, между тем его настоящее место и в комитетах, и в советах, и всюду, где нужен государственный деятель.
– А это глядя по человеку. Князь Артамон Никитич обладает глубоким философским образованием и широким мировоззрением. Такого человека скука не осилит. Оставив военную службу, он провел много лет в Оксфорде и теперь мирно беседует с временами и народами…
– Да разве не удобнее заниматься разработкой исторических материалов в столице, где так доступны ученые пособия? Нет, дядя, согласись, что в его жизни есть много непонятного. Почему, например, его жена, красавица, каких немного, ушла в монастырь?
– Должно быть, ей надоела болтовня молодых поручиков.
– Это ты про меня?
– Да.
– Молчу, молчу!
Молчание длилось, однако, недолго.
– Если бы строгий дядя был снисходительнее к легкомысленному поручику, то поручик мог бы сообщить ему многое, – заявил Узелков, тяготившийся, по-видимому, известной ему тайной.
– Я слушаю, милый.
– Мать Аполлинария больна. Князь ездил к ней в монастырь, но она его не приняла.
– А княжны?
– Они оттуда не выходят.
Представший на балконе Сила Саввич прервал беседу друзей приглашением пожаловать в столовую. Столовая в гурьевском доме выходила окнами на реку.
– У вас глаза помоложе, – обратился князь к вошедшему Узелкову. – Взгляните, не видна ли лодка из монастыря?
– Нет, ваше сиятельство, не видна,
– Оставь здесь мой титул в покое. Пусть я буду для тебя Артамоном Никитичем, а ты… а ты, как сын моего друга и хороший притом юноша, будешь в том чине, в какой я произведу тебя, хотя бы и не выше фендрика. Так лодки не видно?
– Не видно, – подтвердил Можайский. – А вы кого ожидаете?
– Должны бы возвратиться дочери из монастыря, да мать их не успела еще оправиться от недавней тяжелой болезни.
– Господин Голидеев также не будут завтракать, – доложил Сила Саввич, снимая лишние приборы. – Они на рыбной ловле.
– У меня гостит весьма образованный англичанин, мистер Холлидей, – объяснил князь. – Это человек с обширными историческими сведениями. Мы разбираемся с ним в запутанных политических отношениях России к Англии во времена Грозного.
Завтрак проходил оживленно, но, хотя нить беседы и не прерывалась, легко было подметить душевную тревогу хозяина. Мимолетные взгляды его по направлению к монастырю повторялись упорно и часто и – увы! – тщетно, так как ни один парус не белел между усадьбой и обителью.
II
Князь провел этот день в напрасном ожидании: дочери не давали ему никакой весточки. Волнение свое он выдал одному Можайскому, которому, расставаясь на ночь, бросил загадочную фразу:
– Боюсь, чтобы и Марфа не увлеклась скорбью о грехах вселенной.
На следующее утро Узелков и Можайский опять сошлись на том же балконе. Первый, видимо, был насыщен новостью, не дававшей ему покоя.
– Дядя, – выпалил он без всякого вступления, – не женись на княжне Марфе!
Можайский вскинул на него вопросительный взгляд.
– Сердись, сколько хочешь, а я буду твердить одно: Марфа тебе не пара.
– Скорее роль ментора тебе не к лицу!
– Разумеется, не к лицу. Я легкомысленный поручик – и только, а все-таки Марфа тебе не пара. Брани меня, но выслушай. Вот что я совершил по своему легкомыслию. У Антипа есть вскормленник, знающий по садовой части. Вчера после обеда, когда вы занимались с князем умными делами, я отправился к Антипу на пристань и увидел, что знающий по садовой части вскормленник собирается в монастырь охорашивать какую-то захудалую аллею. Здесь у меня явилась преступная мысль – попасть в обитель в роли садовника. Бесчувственный восстал, но когда я переоделся, повязал фартук и надел сумку с инструментами, он не возражал… Привратница чистосердечно приняла меня за парня, знающего по садовой части, и пропустила за ограду обители. Там я принялся скоблить и пилить – и пилил я и скоблил вплоть до той поры, когда из кельи не показались строгие фигуры подвижниц, степенно шествовавших к вечерней службе. Окна в храме были отворены, и я отлично видел правый клирос. Твоя Марфа – она была вся в черном и в бархатном клобучке – показалась мне неземной. Право, я ожидал, что бесплотные силы выступят из иконостаса и поднимут ее на свои белые крылья. Какая же она девушка, когда она эфирное песнопение и непременно обратится в ангела, но в жены – никогда. Она вдохновенная! Пойми, дядя, всю нелепость посадить ее в гостиной рядом с княгиней Марьей Алексеевной! Залюбовавшись ею, я подпилил вместо сухого сучка свой указательный палец, да так, что кровь брызнула фонтаном. На мою беду, мимо проходила сострадательная черничка и завопила: «Иди, родимый, в больницу, иди скорее… там помогут!» – «Покорно благодарю, – думаю себе, – там я встречу княжну Ирину, и она увидит вместо парня, знающего по садовой части, поручика Узелкова». Перевязав наскоро палец, я предстал перед Антипом с повинной. Послушай, дядя, не досталась же Тамара своему жениху, так и с тобой будет. Тамару демон отбил, а у тебя бесплотные силы отнимут Марфу. Увидишь!
Узелков чувствовал себя в роли вдохновенного прорицателя и нисколько не заботился о том, что его предвещания повергали дядю в тяжелую скорбь.
Прошли еще сутки, в течение которых «Подружка» не раз обернулась между усадьбой и монастырем, что не скрылось от Узелкова и не миновало допроса.
– Ты зачем бегал в монастырь?
– Окуньков ловить, – отвечал Антип, не расположенный на этот раз к откровенности. – Там окуньки очень жирны.
– Нет, ты возил в монастырь записку от князя.
– А хотя бы так?
В это время прозвонил колокол к завтраку, и Узелков, обозвав своего друга ракитовым объедком, на что тот всегда сердился, направился к лестнице.
– Старшая, пожалуй, что и не будет, – сообщал ему как бы вдогонку Антип, продолжая изготовлять «Подружку» к новому рейсу. – Не будет, говорю, старшая. В больнице есть трудные, а от трудных ее не оторвешь. Младшую, надо так думать, что отпустят к родителю, потому что мать сама по себе, а родитель сам по себе.
В столовой было новое лицо – мистер Холлидей. После обычной рекомендации князь сообщил за завтраком, не обращаясь ни к кому в частности, что Ирина занята тяжелобольною.
– А Марфа… – Здесь голос князя дрогнул. – А Марфа говеет перед исповедью, – окончил он с некоторым усилием.
– Теперь не пост, – заметил мистер Холлидей, – ваша же религия допускает исповедь только во время постов.
– В монастырях жизнь идет иначе, нежели в общем обиходе, и к тому же исповедь допускается у нас и в обыкновенное время, – возразил князь, стараясь переменить разговор. – Хороший мой фендрик, что ты смотришь так мрачно? – обратился он к Узелкову. – Отнесись внимательнее к этой стерляди.
– Но княжна Марфа могла бы никогда не говеть, – продолжал упорный британец. – Ее душевные свойства вполне напоминают высокую красоту евангельских женщин.
– Русские так глубоко преклоняются перед догматами своей религии, – выступил с неожиданной репликой Узелков, – что не задаются и вопросами, кому и когда следует говеть.
В его тоне слышалась задорная нотка, обратившая общее внимание и прежде всего мистера Холлидея. Нотка эта, видимо, пришлась по сердцу и старому князю. Точно в награду за нее он приказал подать шампанского и провозгласил тост в честь будущих генеральских эполет своего молодого друга.
– Этот Холлидей первый серьезный враг в моей жизни, – признался потом Узелков дяде. – Меня ужасно подмывает вызвать его на дуэль.
– На дуэль? Пощади, за что и чем он тебя обидел в такое короткое время? – спросил Можайский.
– Он обижает меня всем своим существом. Меня обижает его стройная фигура, его умный взгляд, его общая порядочность, его бакенбарды, его противный рыжий цвет и даже его изящная визитка. Скажу более – меня оскорбляет расовая надменность бритта, соединенная с алчностью в политике, с кознями и кривдами, чтобы только прикрыть уязвимую пятку Британии на Гиндукуше.
– Но какое тебе дело до алчной политики надменного бритта… и до его пятки?
– Не забывай, дядя, что я человек военный, и если мне сегодня нет дела до Индии и Гиндукуша, то оно будет завтра или послезавтра. Во всяком случае, не мешай мне притянуть Холлидея к барьеру.
– Сделай одолжение, ты теперь достаточно самостоятелен.
– Вот и спасибо… А теперь я тебе скажу, куда так величественно снаряжается мой друг Антип Бесчувственный. Взгляни, ему мало флага на мачте «Подружки», он покрыл и банкетку красным сукном, а главное – надел картуз с ополченским крестом. Парад этот знаменует то, что ты увидишь свою серафиму Марфу, а я, может быть, Ирину, в которую я… признаться, дядя, что ли? Ну, изволь, признаюсь… в которую я очень влюблен.
– Ты влюблен в княжну Ирину?
– А что же, по-твоему, дядя, поручик не смеет любить, кого он хочет? Чувства мои давно ей известны. Каждый раз, когда она привозила в корпус пирожки, я говорид ей: «Вот и эту неделю я буду смешивать Карла Мартелла с Фридрихом Барбароссой и лангобардов с нибелунгами». Ты думаешь, это непонятно?
– Но она старше тебя.
– Всего двумя-тремя годами. Когда она оканчивала медицинские курсы, я был уже в последнем классе…
Поручик не успел окончить свое признание, как «Подружка» накренила парус и с лихостью смелой волжанки запрядала по волнам. По-видимому, никто из гурьевского общества не желал следить за ней. По крайней мере мистер Холлидей уткнулся в «Таймс», а поручик – в фолиант, трактовавший об отчичах и дедичах, населявших Поволжье во времена сарматов. Даже князь занялся родословной седьмой жены Иоанна Грозного.
– Помните, я просил вас справиться в сказании Курбского «О делех, аще слышахом у достоверных мужей и аще видехом очими своими» насчет происхождения седьмой жены Иоанна Грозного?
– Поднимал я на ноги своих питерских книгоедов, – отвечал Можайский, – но и они не ведают, из какой семьи произросла седьмая любовь грозного царя.
– Между тем этот вопрос легко разрешим, – вмешался в разговор мистер Холлидей. – В библиотеке здешнего монастыря есть рукописный подлинник Грозного, в котором перечислены все его большие и малые жены…
Недостаточно владея русскою речью, англичанин, очевидно, ошибался в передаче своей мысли.
– Какие большие и малые жены? Что за чепуха! – вскинулся Узелков, отрываясь от былин об «отчичах и дедичах». – Да и почему вы это знаете?
Мистер Холлидей сдвинул брови и ничего не ответил, а довольный собой поручик перескочил от дедичей к отчичам, не интересуясь одинаково ни теми ни другими. Втайне же все общество интересовалось лодкой Антипа.
– Наконец-то! – вырвалось у князя отрадное восклицание. – Мои обе дочурки садятся в лодку, Ирина на руле. Она, по обыкновению, серьезна и сдержанна и отлично напоминает своего деда, который во время сражения при Наварине метал в неприятеля руками зажженные гранаты…
О Марфе он не проронил ни слова.
На Волге было неспокойно, но лодка находилась в надежных руках. Антип держал паруса на отличку.
Гурьевка просветлела. Задолго еще до прихода лодки Узелков сбежал вниз к пристани принять, по его словам, причалы. За ним последовало и все общество. К сожалению, он испортил картину тем, что, принимая причал, заторопился, поскользнулся и ткнул Антипа багром в бок.
Первой вышла на пристань княжна Марфа. Направившись к отцу, она поклонилась ему молча, по-монашески, чуть не земно…
Княжна Ирина выпрыгнула из лодки без посторонней помощи. Стройная, изящная и сильная девушка рассчитывала только на собственные силы. Отца она обняла с чувством крепкой любви.
Бесплатно
Читать книгу: «Любовь под боевым огнем»
Установите приложение, чтобы читать эту книгу бесплатно
На этой странице вы можете прочитать онлайн книгу «Любовь под боевым огнем», автора Владимира Череванского. Данная книга имеет возрастное ограничение 12+, относится к жанру «Историческая литература». Произведение затрагивает такие темы, как «история любви», «время и судьбы». Книга «Любовь под боевым огнем» была написана в 1896 и издана в 2012 году. Приятного чтения!
О проекте
О подписке
Другие проекты
