Блокадные после... Незавершенностью сквозит в названии, недоговоренностью. Однако беглое слово являет умолчание, не умаляющее, а, наоборот, расширяющее смыслы. Что, кто скрывается в тени этого «после»? Дни? Люди? События? Страдания? Воспоминания? Всё вместе? Составитель не ставит перед собой задачи собрать мозаику из разрозненных кусочков опыта про/пере-живания блокады и послевоенных лет. Книга так и остается не более чем сборником статей (докладов) по итогам конференции, проведенной в июне 2018 года в Фонтанном доме, столь не чуждом биографии Санкт-Петербурга.
Перед нами россыпь видений на общем фоне постблокадного Ленинграда: вот осознавший невозможность передачи хаоса катастрофы Шварц; вот отшатывающаяся от Города и возлюбленного Ахматова; вот казнь нацистских преступников – акт правосудия, превращенный в массовое зрелище; вот некий философ и друг Хармса; вот Ольга Берггольц, признанная и почитаемая, но раскалываемая внутренним конфликтом и, кажется, так никогда не сумевшая по-настоящему пережить блокаду; вот (самое жгущее) ребенок, выживший в смертную зиму в Ленинграде, потом попавший в эвакуации в Сталинград (!), а в послевоенные годы мучимый непониманием, как с этим приобретенным новым знанием о себе, о человеке, о советской нашей родине жить дальше; вот бесчинствующая в Ленинграде банда совершенно социопатических подростков; вот темный, ненастный город с маленькими человечками на фоне нависающих архитектурных громад в литографиях А. Л. Каплана; вот проект памятника обороне Ленинграда, задуманный в 1942 году (!), автору которого суждено умереть весной 1943 года в блокадном городе.
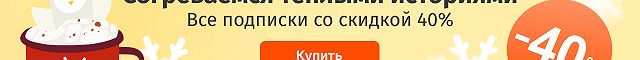
- Главная
- Библиотека
- ⭐️Вадим Басс
- Отзывы на книги автора
Отзывы на книги автора «Вадим Басс»
Julsoni
Оценил книгу
Поделиться
GODUNOF
Оценил книгу
Когда начинаешь читать документальную книгу о блокаде, последнее, что хочешь увидеть в ней - это ныне модные словечки из разряда заимствованных слов. Рунглиш - зло, указывающее чаще всего на бедность автора в плане скудности его словарного запаса. Барскова филигранно, с упоением пичкает свой текст умными фразами, не задумываясь о его композиции и, как она выражается, монтажности. Рунглиш имеет место быть только тогда, когда сие помогает раскрыть персонажа, отражает особенности его речи. Здесь речь идёт о документальной книге. О блокаде. Хотелось просто отложить эту книгу, я думал, что и дальше будет это мучение для глаз и ума, любящих красивые, богатые тексты. Благо, Барскова занимает своим словоблудием небольшое количество сборника. Другие авторы в сборнике пишут в разы спокойнее, мягче, лучше, мелодичнее, об основном, а не о воде.
Барскова же решила блеснуть знанием редких исторических терминов, мол, смотрите, я историк. Ни в одном учебнике нет такого пафоса и выпячивания себя.
Если о содержании, то книга неплохая, вроде как отражающая воспоминания блокадников о своей жизни после неё. Неприятно впечатлила Ахматова, в воспоминаниях Берггольц она сказала: "Ненавижу Сталина, ненавижу Гитлера, ненавижу тех, кто бросает бомбы на Ленинград, и на Берлин". Эм, что, простите? То есть, наших солдат она тоже ненавидела? За то, что они ответили на удар врага? Вероятно, эта тётка из тех, кто был бы рад, сдай Ленинград. Уважения к ней теперь просто ноль. Почти всю блокаду прожила в эвакуации, жила на нашей земле, и ненавидела, видите ли, нас же за то, что воевали с захватчиками. Адекватности ни в одном глазу.
Блок "Массовое зрелище 5 января 1946 года" пера Поздняковой пропитан откровенным негодованием насчёт советского правительства и его решений. Она открыто ставит оценку тем событиям, что не может позволить себе ни один уважающий себя историк, ибо документальная книга - это учебник, который должен содержать факты, а не личные мнения и рассуждения автора. Позднякова негодует из-за расстрела немцев возле кинотеатра "Гигант", помимо этого, в строках сквозит лёгкое осуждение тех, кто тогда радовался казни палачей.
Самым удачным стал кусок про Берггольц.
В целом, интересно было почитать о других людях, о том, как они пытались отойти от страшных событий, начать жить новой жизнью. Для ознакомления книга вполне хороша.
Поделиться
brahidaktilia
Оценил книгу
Это не просто книга, это сборник научных статей по теме блокады. И предназначен он для тех, кто уже многое прочитал, и хочет почитать глубокий анализ.
Статья про казнь понравилась, хотя мне пришлось искать видео, чтобы понять конфигурацию. Статья про Берггольц была мной не понята - надо знать биографию Ольги, читать её блокадный дневник, чтобы осмысленно читать анализ её слов и слов её ближайшего окружения. То же самое могу сказать про статью о спасшем архивы Хармса. Я потратила больше времени на ликбез в Википедии, чем на прочтение самой статьи, и все равно не смогла её полностью осмыслить.
Таким образом, книга написана для весьма узкой аудитории, и, кажется, я в неё не вошла. Жаль, ибо тема затронута интересная.
Поделиться
О проекте
О подписке
Другие проекты