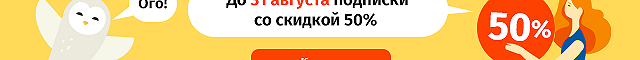
Козлофф П.
Сто тысяч рашпилей по нервам Рассказы и стихи
Вместо предисловия
Павел Козлофф – удивительный писатель. Просто удивительный, и все – в самом базовом и, пожалуй, в одном из самых симпатичных значений этого эпитета. Именно Козлоффа надо читать, если вы хотите понять, что такое литературная самобытность. Не самобытность-тренд, не самобытность-жест, а самобытность – естественное природное явление. Как оперение у птицы или форма листьев у растения. Козлофф не пытается реформировать жанр детектива и не занимается организацией алхимического брака массовой литературы с концептуальным текстовым высказыванием. Он просто пишет вот так – создавая причудливые гибридные произведения на полупрозрачной грани между прозой и поэзий; повести и рассказы, в которых происходят убийства, раскрываются мрачные семейные тайны, любовные линии завязываются в неожиданные узлы, и почти наверняка кто-то увидит послание из будущего, а чтобы было еще веселее, кто-то обязательно попытается разрешить амурно-криминальную коллизию при помощи новейших достижений науки, с невероятными последствиями – и вся эта интрига, подобно мухе или же листочку, как в теплом янтаре, заключена в тягучем ямбе с вольною стопой, струящемся неспешно по страницам, и прозаическую ткань меняя незаметно на нечто близкое по очертаньям к тайне, и все, что в поэзии было бы чрезмерно серьезно, ну а в прозе и вовсе глупо, здесь приобретает особое межмирное звучанье… Приблизительно так это выглядит. Читать Козлоффа надо с осторожностью – его стиль заразителен, не успеешь опомниться, как сам заговоришь стихопрозой. Или поэзопрозой. В общем, диковинной и самовольной речью.
Рассказы – дверка в балетную вселенную. Закулисье есть закулисье – прогулка будет таинственной. Простая классическая архитектура доброй мемуарной прозы здесь в любой момент может огорошить неожиданной винтовой лестницей или потайным ходом – заметным, правда, лишь для тех, кто умеет как следует всматриваться в текст.
А вот «Три дня из жизни Салтыкова» – не столько для тех, кто умеет всматриваться, сколько для тех, кто умеет ухватиться за текст и отчаянно держаться, как Иванушка на волшебной кобылице. Суть фокуса, который проделывает с фабулой Козлофф, трудно описать – это какое-то особенное сжатие-сгущение-ускорение жизни, помещающее текст в почти научно-фантастическую точку пространства, откуда можно с одинаковой легкостью дотронуться и до усиленно предсказываемого нам небуквенного будущего, и до сурового лаконизма средневековых хроник.
Павел Козлофф пишет не только затейливые детективы и «балетные» рассказы, но и традиционные стихи – с четким ритмом, вполне классическими рифмами и вроде бы кристально-ясными жанрово-смысловыми границами. Но от традиции тут, конечно, только форма. Силлаботоника для Козлоффа – не уютный причал, а скорее цилиндр фокусника, простой и элегантный предмет, из которого чертовски удобно вытягивать всякие чудеса. Со стихией текста у Козлоффа «высокие, высокие отношения» – он отлично разбирается в ее внутренних законах и умеет изящно их нарушать. Стихи, вошедшие в сборник, – замечательный пример игры с философией наивного искусства. Небольшие, легкие, с юмором подчас на грани циркового номера и образцово-простыми, «полароидно-моментальными» сюжетами.
Ближайшим литературным родственником Павла Козлоффа, наверное, следует считать Козьму Пруткова. Генеалогическая связь с фантастическим стихотворцем – роскошь, которую может позволить себе далеко не каждый поэт, но в случае Козлоффа тут все правильно. В его вселенной так же непредсказуемо смешиваются полутона игры и серьезности, так же плодоносит любая намеренная шероховатость, такой же любовью к слову – к его живой и упругой плоти, а не к ледяной семантике – наполнена любая тестовая «пасхалка» (коих у Козлоффа великое множество в диапазоне от Пушкина до Кушнера). Это поэзия человека, хорошо знающего, что такое печаль и боль, отлично осведомленного о количестве грустных ню, скрываемых под одеждой каждым из нас, о масштабах мира, где иногда бывает неправильно все: от невкусного помидора до основных законов времени и пространства и жить в котором – все равно, что быть непрерывно уроненным с трамвая. И еще это поэзия человека, умеющего с этим зловредным эсхатологическим трамваем бороться – и побеждать, подчас самым удивительным способом.
Оксана Бек
«За коньяком и папиросой…»
К картине Густава Климта на обложке книги
За коньяком и папиросой
Рапидом следует угар,
Неся с собою чувство скверны.
Сто тысяч рашпилей по нервам.
Будто Юдифь у Олоферна
Главу снесла не за удар,
А шею бедного ножовкой
Кромсала долго без сноровки,
И парня мучила вопросом,
А рад ли Навохудоносор,
Узнав, что вместо битвы блуд,
Избрал его военачальник.
Что жизнь грустна, а смерть печальна,
Не только иволги поют.
«Я поздно вечером встаю…»
Я поздно вечером встаю,
И начинаю жизнь свою,
Чтоб упиваться до утра
Как Пушкин росчерком пера.
Пленяет лоно монитора,
Летит компьютерная мышь.
И есть предчувствие, что скоро
Открою дверь – там ты стоишь.
«Во мне сокрыты залежи…»
Во мне сокрыты залежи
Несметные I Q,
Поэтому товарищи
Я днем и ночью пью
А если разработаю
Несметное свое,
Какой печальной нотою
Предстанет бытие
«Одичало стоит Грибоедов…»
Одичало стоит Грибоедов
На бульваре у Чистых прудов,
Где тинэйджеры вместо обеда
Делят чипсы и водку «Smirnoff».
Не расскажет мой преданный сервер,
Будто клятва сковала уста,
Как мы пили портвейны на сквере,
Под угрозой мента из куста.
Если спросит парнишка безусый:
«Неужели и вы, господин?»
Я отвечу тому карапузу:
«Да, конечно. Не ты же один».
«Из театра представления…»
Из театра представления
В театр переживаний.
Устав от ночи бдения
Заснул я на диване.
Москва назад столетие
Открыла мне кулисы.
Таирова там встретил я
И Коонен Алису.
Свое пристрастье вкусами
Не упустив из виду
Я в переулке Брюсовом
Райх встретил Зинаиду.
Твой сон не в руку, скажете
С лицом в надменной мине.
Зато не надо в гаджете
Мне их искать отныне.
Амур и Смерть
– Paul! – закричала графиня из-за ширмов, – пришли мне, какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних.
– Как это, grand’maman?
– То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников!
– Таких романов нынче нет.
А .С. Пушкин
Закончились балетный класс, урок вокала, репетиции, разъехались до вечера артисты, помощник режиссера закрывал балетный офис, когда пришло в театр грустное известие, что Костя Пастухов, два года, как отправленный на пенсию, скончался. Не просто умер, а трагически погиб. Как рассказали – это был несчастный случай, но без достаточных конкретных обстоятельств, так как свидетелей найти не удалось. Хотя произошло все светлым днем в жилом районе очень близко от метро. А похороны будут послезавтра. В отделе кадров отыскали фотографию, снабдили её траурною рамкой, и на доске для объявлений появился некролог.
В тот день давали «Пиковую даму». Балет отъехал на гастроли, отрядив для танцев в операх лишь горсточку артистов, которых выбрала Ирина Одаховская, балетная звезда, недавно завершившая карьеру. Ей предложили репетировать, с кем только ни захочет, чтоб только удержать её в театре. Не из-за опыта, большого мастерства. Все знали: у неё есть третий глаз для истинного взгляда на искусство, на этот возвышающий обман. И удалась ей режиссерская работа, когда один артист кордебалета, с кем Ире захотелось танцевать, в её руках едва ли стал не гениален. Но это было только раз и по любви.
Теперь Ирине, распрощавшейся со сценой, хотелось самолично делать звезд. Ей вправду удавалось видеть многое, сокрытое от заурядных глаз. К примеру – в неуклюжей Урминой, в природе удлиненных ее линий, Ирине виделась возможная Жизель; а эта пара – Чайкина с Десницким; ведь было очевидно – если с ними поработать, то здорово станцуют «Дон Кихот». Бесспорно, что и Чуркин перспективен, с его заоблачною техникой, огромным темпераментом, горящими бездонными глазами. Сегодня вечером у Чуркина дебют: они с Земфирой Урминой выходят на балу второго акта в забавном па-де-де «Амур и Смерть». Ирина с ними поработала, и знала – получилось хорошо. Но подошел в конце прогона к ней Плецкявичус, прославленный клипмейкер, приглашенный режиссер, решивший «Пиковую» в собственной трактовке.
– Согласен, что Амур акселерат, не пупсик устаревший с самострелом, а квинтэссенция эротики, разящая кругом всех наповал. Но почему, скажите, смерть так беззаботна? В ней должен быть безжалостный и ждущий всех конец.
У Одаховской была четкая позиция, которую не стоило труда обосновать.
– Я, Роминус, танцую от другого. Вам разве не сказал никто, что смерти нет вообще? Что люди верят в смерть лишь потому, что их так учат и приравнивают жизнь к функционированью разных всяких органов. Мне мой кузен давно уже открыл, что смерть не завершенье нашей жизни, а точка перехода в мир иной. Возьмите физику с бесчисленным количеством Вселенных, где в каждой мириады ситуаций и людей. Ведь все, что с нами в будущем случится, уже случилось, или где-то происходит, и то, что называют словом смерть, не может в принципе никак существовать. Жизнь человека – многолетнее растение, и возвращается всегда, чтоб снова зацвести в мультивселенной.
– Но это же вразрез с моей концепцией?
– Да, бросьте вы, какой уж тут разрез! У вас конкретно:
Лиза в лодке на Фонтанке, замучилась, а «Германа все нет»; и из под купола спускаются на сцену на канатах – и старая графиня, и повеса Сен-Жермен, и бедный Герман, и спускают вслед бесстрастного крупье, (я верно понимаю?) как судьбу. И это здорово, так кеглей по графине, когда звучит, что ваша карта бита.
– Тогда зачем на смерти кости, как скелет? А пупсику скажите, пусть хотя бы грудь побреет. Не очень, прямо скажем, эстетично.
Тут Одаховская припомнила Ахматову, считавшую, что «Пиковая дама» – загадочная очень повесть Пушкина.
И, сколько бы ни бились с этой заданной загадкой, то, все-таки, вовек не разрешат.
** *
«Какие хлопья, мошкара к оконной раме», – так думала Ирина этим утром, любуясь на февральский снегопад, и радуясь, что снег не таял сразу, а покрывал унылый серый двор и делал его чистым и нарядным. Лапландия и Вечность, мальчик Кай. Она вдруг вспомнила троюродного брата, ученого по квантовой механике, который рассказал ей о теории, что время нереально, и движется лишь в нашем представлении. Как можно было с ним не согласиться? Ведь в случае, что время лишь условность, то возраст и подавно ерунда. В семнадцать ей казались стариками и старухами, чьи годы близки к цифре пятьдесят. Теперь же, в свои сорок девять лет, пусть не могла она ни прыгать, как когда-то, ни бешено вертеться в фуэте, но кто сказал бы, что она не молода? Не важно, что пришлось уйти со сцены. Играть комедии и драмы в частной жизни интересней.
А утро, между прочим, продолжалось. Задумчиво, не расставаясь с кофе, прошла она в уютную столовую к любимой маме на портрете над камином. К той юной девушке, что стала её мамой, когда портрет уже валялся на шкафу. На полотне модель читала, художник в это время рисовал. И оба были молоды, красивы, влюблены. Художник эмигрировал в Париж, у мамы родилась её Ирина. Художник сделал на портрете подпись: Wanted!1 А мама приписала: Never more»2.
Мать у Ирины занималась филологией и девочка взрослела в мире книг. Все стихотворные размеры Ира знала, хранила в памяти стихи, отрывки прозы, и часто, с изощренною иронией, скрывала свои мысли за цитатой.
Ещё в младенчестве открылся в ней талант. От сказок, что рассказывала бабушка, в ней что-то моментально изменялось. Она казалась отрешенной, взгляд мутнел, ребенка становилось не узнать. Ее спросили, что же с нею происходит.
– Мне бабушка поведала, какая Айога, вот я и представляю вам, какая.
Ириша тщательно вытягивала шею, таращила глаза, и всё искала, где ей лучше отразиться. С такою гордостью был задран подбородок, что, знавшие в чем дело, умилялись. Не удивительно, что выросла актрисой.
В балет она попала за компанию, когда Максима, её друга по песочнице, надумали отдать в хореографию, а он брыкался и твердил, что без Ирины никуда он не пойдет. Ирину взяли, хоть и было двести девочек на место. Так и учились в одном классе Ирина Одаховская и детский её друг Максим Валуев. Ей прочили карьеру, он же был красив, породист, к тому же – замечательный партнер. Как позабыть об их «Элегии» Массне на выпускном!
Последним летом перед театром они ездили в любимый Коктебель. Там, на скале Хамелеон, в час сумерек почти совсем лиловой, Ирина, может, несколько сурово, сказала, что интимных отношений у них в будущем не будет никогда. Макс видел, как Ирина изменилось, буравила глазами Кара-Даг, как будто там она читала эти горькие жестокие слова:
– Прошлись с тобой, Максимка, мы по всем урокам жизни. И мне не нужен пусть предельной даже сказочности принц, настолько я люблю свою свободу. Конечно, невозможно без романов, быть может, даже связей по расчету. Но ты мне будешь не чужой, а мой двоюродный троюродный кузен.
Максиму было больно, но Ирина оказалась непреклонна. Вниманием своим она его не обделила, напротив, даже вздумала развить в нем интеллект, открыв ему излюбленный свой мир литературы. И он смирился, зачитался, начитался до того, что даже начал пробовать писать. Ирина помнила одно стихотворение, Валуев педагогу написал на юбилей.
Дни рожденья – житейские вехи,
Дни рожденья – смотрины трудов.
Сколько в нашем танцующем цехе
У Петрунина учеников.
Каждый хочет поздравить, и вправе,
Благодарный обилен язык.
На основе классических правил,
Каждый в танце чего-то достиг.
Под учительским бдительным взглядом,
Мы всегда неустанно растем.
С каждым туром и каждым глиссадом,
Совершенствуясь в танце своем.
Пусть звенят поздравления звуки,
Будет труппа сегодня пьяна.
Да, в надежные, верные руки
Свои ноги вручила она!
Она тогда подбодрила поэта: «Твоим стихам настанет свой черед».
** *
Ирина стала балериной уникальной, Максим же подвизался, как солист второго плана. Когда ей нужен был фактуристый партнер, без танцев, большей частью для поддержек, как хан Гирей в «Бахчисарайском», то Одаховская просила, чтобы это был Валуев.
Когда Максим женился – она искренне, с любовью поздравляла, и очень была рада за него. Оттанцевав же двадцать лет, Максим отправился на пенсию, чтоб выехать в Америку к родителям жены, и там он, наконец-то, выбрал время для писания романа.
Она же танцевала еще долгих десять лет, и выступила в нескольких премьерах, на радость публике, которая считала, что у любимой балерины это новый бурный взлет, а не растянутый закат, обставленный с роскошной царской помпой. Когда же она все-таки ушла, все сожалели, что рассталась Одаховская со сценой, как будто, находясь в расцвете сил. Она не сомневалась – много лучше будет так, чем ползать жалким зрелищем по сцене.
Вот так и отработали Ирина и Валуев в одном театре. Максим был для Ирины будто добрый и не очень дальний родственник. Лишь раз в нем пробудилась вдруг чудовищная ревность, когда он убедился, что Ирина в самом деле влюблена.
** *
Каминный «Мозер»3 сдвинул стрелки ко второму пополудни. Звонил мобильник, но сегодня с Арцыбашевой, подругой, метко прозванной «последние известия», Ирина не хотела говорить: ей ни к чему все эти новости и сплетни, подумать есть о чем и без того. Внезапно вспомнился вчерашний мальчик Чуркин – забавно, что он так в неё влюблен. Потом мысль перекинулась к Валуеву, писавшему, что скоро он приедет. А в два пятнадцать ей Валуев позвонил.
– Ты можешь не поверить, я в Москве.
– Давно ли? – Ира вяло удивилась.
– Сегодня рано утром прилетел. Что нового хорошего в театре?
– Я дома, и откуда же мне знать. А вечером придется быть на «Пиковой».
– Готовься, что тебя там ждет сюрприз.
** *
В семь Одаховская была уже в театре. Те из артистов, кто был занят в первом акте, давно все находились за кулисами; другие, в костюмерных и гримерных, готовились к большой картине бала. В балетном зале в полном гриме занималась Урмина.
– Не перегрейся, – подсказала ей Ирина. – На сцену после первого звонка.
И не спеша она пошла в балетный офис. По ходу, у доски для объявлений, застыла Вяльцева, солистка в «Интермедии пастушки». Она заметила Ирину, когда та только близко подошла. И, встретившись глазами, прошептала:
Дядя Костя!
Ирина глянула и сразу обомлела. Ведь ту же карточку она хранила дома, ей Костя сам ее когда-то подарил. Но этот некролог, и эта рамка? Нелепица. Мой миленький дружок.
Мелькнули в памяти Ирины те гастроли, когда она, уже звезда и знаменитость, отказывалась верить, что Господь ей даровал такую светлую любовь. Возник мгновенно рядом Костик тех времен, доверчивый, её влюбленный мальчик. Вернулись, будто, годы их любви. И Рихард Штраус4, его страстный «Дон Жуан». Ирина сделала условие – станцует донну Анну, но выберет, с кем будет танцевать. Когда узнали, что партнером будет Костя, все думали – она сошла с ума. А уж потом заговорили – «третий глаз».
«Я Дон Гуан, и я тебя люблю»5. Любезный пастушок. Зачем ты умер?
Навязчиво стал петь её мобильник. Валуев сразу же спросил:
– Теперь ты знаешь?
– О Костике? И ты звонил, ты знал?
– Я, собственно, для этого приехал. Несчастный этот случай – это я.
Воистину – тяжелый темный бред.
Максим был в «Дон Жуане» Командором. И уверяет, что явился, как возмездье.
Ирина чувствовала – что-то тут не так. Она прервала разговор и посмотрела на мобильник. Да, номер у Валуева его, но только это их, американский. В Москве с него звонить никак нельзя, поскольку у нас разные частоты. Хотя, возможно, техника дошла.
Ирина тут же позвонила Арцыбашевой.
– Все грустно, – поделилась с ней подруга. – На вскрытии – обширнейший инфаркт. Всему виною белая горячка.
– Delirium?6 Но Костя ведь не пил.
– С тобой. Но сколько лет, как вы расстались? У Константина, как обычно, был запой. Три дня закончился, но Костя был, буквально, не в себе. Сегодня же он просто обезумел. Из дома вырвался, где бегал – неизвестно. Прохожие нашли его в снегу.
– А ты Валуеву звонила?
– Как и всем. Ответила жена, дала Максима.
– Так ты ему в Нью-Йорк, на городской?
– Он только у меня один записан.
У Одаховской, наконец-то, все сложилось. Она, буквально, что была поражена: Максим в Америке, и это так он шутит. Хороший черный юмор был Ирине по душе. Однако в шутке у Максима был, скорей, идиотизм, к тому же отвратительный и злобный. Додумался, когда и с чем шутить. Недаром никогда не обольщалась.
На этой странице вы можете прочитать онлайн книгу «Сто тысяч рашпилей по нервам. Рассказы и стихи», автора Павла Козлофф. Данная книга имеет возрастное ограничение 18+, относится к жанру «Современная русская литература». Произведение затрагивает такие темы, как «проза жизни». Книга «Сто тысяч рашпилей по нервам. Рассказы и стихи» была издана в 2020 году. Приятного чтения!
О проекте
О подписке
