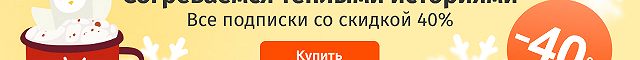Ах время, время, времечко
Жизнь не пролетела зря.
Трамвая, "пятерочка",
Вези в Черемушки меня.
Все люди делятся: на тех, кто любит чай или кофе; кто летает самолетом или едет поездом; вегетарианцев и мясоедов; кто выбирает пляжный или экскурсионный отдых; на оптимистов и пессимистов; интеллектуалов и простаков, и еще по тысяче разных параметров. В одном мы солидарны — не любим делиться личным пространством. Вынужденное соседство с чужими людьми всегда сложно. Даже если это приехавшие в гости родственники или друзья («гости хороши когда приезжают и когда уезжают»). Коммунальное бытование, если и не ад, то чистилище, от которого советского человека избавили хрущевки.
Кажется их не пнул только безногий: тонкие стены, тесные кухни, низкие потолки, совмещенные санузлы. Честно? Ни один из этих недостатков не казался мне критичным, когда мы ушли из общежития в съемную хрущевочку, Не кажется и теперь, когда успела пожить в самых разных локациях. Пусть небольшое и совсем не лакшери стайл, но отдельное и свое. Массовое жилищное строительство, начатое при Н.С.Хрущеве. вошло в обиход под его именем, хотя, строго говоря, хрущевки — это всего лишь семь лет, с 1957 по 1963 годы. Но более поздняя массовая поквартальная многоэтажная застройка во многом унаследовала те же стандарты. 4-комнатная квартира моей бабули, полученная в брежневском 1972 взамен дома под снос, имела такую же крохотную кухню и балкон вместо лоджии, а в тетиной «однушке» ванная с туалетом были совмещены.
Историк, культуролог, исследовательница российской и советской повседневности Наталия Лебина посвятила свою книгу хрущевке как социокультурному феномену. С чего начиналось, что предшествовало, что брали за образцы, как строилось. как менялась инфраструктура вокруг и бытовые привычки. А главное — как менялся человек. Вот смотрите, я очень люблю старый фильм "Дом. в котором мы живем", но лишь с этой книгой так отчетливо поняла, что его герои, получившие квартиры в этих просторных комнатах с высокими потолками - по сути так же обречены на ведение коммунального хозяйства, как жильцы какой-нибудь "Зойкиной квартиры" или "Вороньей слободки", пусть в более приятном обществе - выделялись квартиры передовикам производства и в целом образцовым гражданам. Но суть не менялась: советский человек обречен был на жизнь в коллективе даже в этих шедеврах сталинского ампира. За редким исключением: большим начальникам и творческой элите выпадало счастье жить в 5-6комнатных хоромах (в "Доме правительства" Юрия Слезкина про это отлично).
Вопрос в стране, за десятилетие превращенной из аграрной в индустриальную, с сопутствующим массовым притоком населения в города, стоял остро, а после массовых разрушений войны стал еще острее, и его даже пытались решать. Но имперская помпезность сталинского стиля никак не предполагала массового строительства. Комнаты вроде тех, что получили герои фильма, доставались единицам, да и они жили в коммуналках, остальные теснились друг у друга на голове. Курс на десталинизацию сделал возможными изменения в градостроительстве,. Помогло то, что: 1. с проблемой мы были не одиноки, вопрос строительства дешевого жилья стоял во всех европейских странах и можно было взять на вооружение их опыт; 2. появилась технология блочных панелей, на порядок ускорявшая и удешевлявшая строительство.
Франкфуртские дома в Германии, прафабы (prefabricated homes) в Англии, ашелемы во Франции - именно французский вариант был взят нами за основу. Чуть модифицированный, у них максимальная высота дешевого жилья HLM (une habitation à loyer modéré – жилье за умеренную плату) была 4 этажа. Так что жители хрущевок в каком-то смысле французы. Книга Лебиной эталонный нонфикшен: информативно, точно, подкреплено дополнительными сведениями технического и житейского толка, в меру эмоционально. Отдельно про кухню и ванну с туалетом, про жилые комнаты, про меблировку внутри и инфраструктуру снаружи. Про особую общность и особый микроклимат (даже в буквальном смысле), которые складывались вокруг микрорайонов.
"Хрущевка" написана с большой любовью, но без излишних сантиментов, и мне был интересно все время.