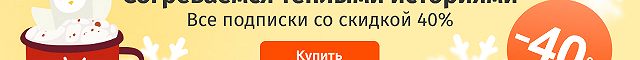ДвояКОСТЬ как кость в горле может встать при попытке понять такой язык - не дать не взять язык Герцогини из "Алисы в Стране Чудес". Ну, помните: "Никогда не думай, что ты иная, чем могла бы не быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть!" С одной разницей - в каламбуре Герцогини нет смысла, а гегелевские "каламбуры" несут в себе непреходящий смысл.
Так в чем двоякость? Гегель прежде всего говорит о двоякости понимания (а я бы сказала "восприятия") понятия, двоякости рефлексии и, как следствие, двоякости понимания самой сути диалектики (два перехода, рассудочная бесконечность vs истинная бесконечность). Ну и, соответственно, двоякое понимание истины.
Что касается двоякости понимания понятия, тут лучше обратиться к Разделу третьему "Учение о понятии" "Энциклопедии философских наук" Гегеля. Там он пишет, например: "В рассудочной логике понятие рассматривается обычно как простая форма мышления и, говоря более точно, как общее представление: к этому подчинённому пониманию понятия относится так часто повторяемое со стороны ощущения и сердца утверждение, будто понятие как таковое есть нечто мертвое, пустое и абстрактное..."То есть именно то, против чего впоследствии выступали семиотики и постмодернисты, противопоставляя понятию целостный образ, из которого это понятие изначально произошло, но нередко (так скажем) опускается, не принимается в расчет. И на этом основании собственные образы представления, имеющие в своей основе одни и те же образы восприятия, они виртуозно выражали каждый на свой манер.
Двоякость рефлексии состоит по Гегелю в существовании внешней рефлексии и рефлексии в себя, собственно рассудочное понимание понятийности он сводит к внешней рефлексии. Рефлексия в себя (но не для себя :)) ) - сама сущность абсолютного познания, основывается на таком понимании сущности понятия, которое включает целостный образ, который образуется на уровне синтетического мышления.
Из вышесказанного вытекает двоякость понимания диалектики. И истины.
Известно, что психология отделилась от философии в середине 19 века, то есть после опубликования "Науки логики", на основании которой составлена эта книга. Поэтому, помимо собственно теории познания гносеологии (именно гносеологии, поскольку она шире эпистемологии) и теории понимания герменевтики, которые остаются сферой философского рассмотрения, по тем временам вопросы, которые теперь являются компетенцией психологии (теория мышления), также попадали в поле философского рассмотрения, и если это большой философ, то прогностическая функция ему давалась блестяще. Гегель - один из таких мыслителей. И даже если весь гегелевский "каламбур" перевести на язык точной науки, подобрав понятия, соответствующие истинной сути абстракций, его учение не потеряет своей ценности по двум критериям - художественное выражение и проницательность. К последнему прибавляет то, что кантовское трансцендентное стало имманентным, то есть умопостигаемым. И это радует.
Не удивительно, что Гегель рассматривает мышление, а точнее наиболее эффективный образ мышления, на котором должен строится научный метод, говоря об объективной логике. Диалектика - это не способ, а именно образ мышления. К сожалению, научиться с кондачка ему нельзя. Всегда иметь в виду противоречия, избегая одностороннего подхода, не достаточно. Этому сам Гегель в книге уделяет немало места, называя результат таких попыток бесконечным рассудком и ещё менее лестно. Однако таким пониманием ознаменован первый переход по Гегелю. Второй переход, который позже у постмодернистов будет назван трансгрессией, не так-то просто осуществить. Он не осуществляется осознанным волевым усилием мысли. Это особенность и прерогатива синтетического мышления.