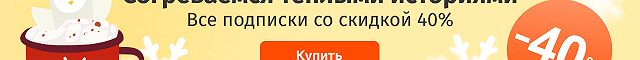
Глава 1. Наран.
Наран проснулся оттого, что снова зачесалось лицо.
Сон упорхнул вверх, к отверстию в юрте, стал одной из звёзд. Мальчик лежал, разглядывая полог и выжидая, пока уляжется зверь, который две минуты назад шершавым и болезненным языком вылизывал его лицо. Небосвод качнулся в сторону рассвета – Наран заметил хвост бегущей собаки из четырёх мелких, похожих на семена мака, звёздочек.
Наконец, поднял руку и как можно более отстранённо, чтобы не почуял зверь, потрогал лицо. Шрамы никуда не делись. Один пересекал щёку и левую глазницу, другой, располовинив ухо, исчезал и возникал вновь безобразными бороздами на шее. Провёл пальцем по единственному усу, бегущему по левой ото рта стороне, словно тоненькая струйка крови. Справа что-то повредилось, и, когда пришло время, волоски там так и не показались. Было время, Наран считал отсутствие одного уса главным своим увечьем – теперь же свыкся, как свыкается хромой от рождения с неспособностью бегать.
Чаще всего зверь приходил в виде крота с морщинистым розоватым телом, покрытым короткой шёрсткой. Крот становился на грудь, когти оставляли под кадыком вмятины, как будто Наран был не из мяса и костей, а из сырой глины. Грудь сдавливало так, будто на неё наступила лошадь. Точно такое же чувство было, когда бешеная лисица едва не вырвала вместе с рёбрами лёгкое.
Из маленькой пасти выпадал неожиданно большой язык. Словно червь, полз он по щекам мальчика, сдирая кожу и впитывая в себя сукровицу, а тот лежал и боялся пошевелиться. Вдруг животному приспичит вцепиться зубами ему в нос?..
Во сне шрамов не было, но по пробуждении он их неизменно находил – старые и уродливые, отчаянно чешущиеся под загрубевшей коркой.
В шатре ещё все спали, и дыхание сна смешивалось с остывающими углями. Наран, как младший сын, не имел пока ещё права на собственный шатёр и потому ютился в семейном, возле самой перегородки, что отделяла мужскую половину от половины для жён и дочерей. Несмотря на то, что был уже взрослым по меркам кочевых племён. Шатёр будет сшит силами аила, когда хотя бы одна жена родит ему хотя бы одного сына.
Пока же у Нарана не то, что сына, – жены не было. В его положении завести её было не так-то просто.
Войлочная постель накопила за ночь тепло, лежать было приятно, и даже насекомые, обычно очень кусачие в начале ночи, угомонились. Страшный сон всё ещё свербел в носу, и Наран решил не закрывать глаз и ещё немного полюбоваться на небо. Осенью, даже когда сезон дождей растает во рту Великой степи, будто спелая ягода или комочек снега, нечасто получается увидеть такое чистое небо.
– Мы, – говорили старики, – дети степи. Наш народ приручает другие народы, чтобы жить с ними в согласии. Народ овец даёт нам шерсть, народ коз и кобылиц – молоко, а жеребцы возят нас на своих спинах. Мы даём им организованность и крепкую руку, на которую они всегда могут положиться.
Наши лица плоские, как степь. Мы и есть отражение степи, мы и есть её любимые дети.
Наран часто думал, что теперь он не похож на дитя степи. Мама-степь не может быть так уродлива, её не могут пересекать столько оврагов и пучить, как живот больного младенца, столько всхолмий. Плавного течения её рек не вправе нарушить никто. Она не может вонять гнилым мясом.
В первые дни после несчастья Наран думал: может, мама-степь не примет его обратно, и быстрый конь скинет его на землю. Или коршун выклюет второй глаз, и аил бросит его умирать. Но ничего такого не случилось.
В степи главным хищником был человек, на быстроногих конях носился он по её бескрайнему покрывалу. И ни один зверь не осмеливался подойти к грозным юртам, о которые спотыкался даже ветер, а солнце почтительно короновало их тенями, похожими на высокие меховые шапки.
Однако лисица, которую ради забавы решили загнать несколько мальчишек, об этом не знала. Поначалу охотники действительно видели только её хвост, рыжий с белым кончиком, и уже примерялись, кто ловчее может за него ухватить. На троих у них имелся тупой нож в ножнах и две палки, одна из которых была «счастливой», поскольку Наран сбил ей двух или трёх странников-голубей. Это слово он вырезал на палке, а ещё сделал отцовским кинжалом удобную ручку, а ещё пустил по всей её длине простой узор, похожий на след, который остаётся в траве от убегающего зайца.
Лисица, обежав куст орешника, кинулась на своих преследователей. Друзья бросились врассыпную, побросав оружие, а Наран, не успевший сообразить, почему вместо лисьего хвоста перед лицом щёлкают клыки, грохнулся на спину.
Сначала она искусала руки. Кровь брызгала лисице на грудь, залила ей все уши и оставила капли на языке в глубине раззявленного рта. Потом метнулась к груди, разорвав одежду и раскорябав до мяса всю правую половину тела. Может быть, её привлёк стук сердца, может быть, хриплое дыхание. Наран заорал, и тогда она вознамерилась откусить ему язык, но промахнулась, и мальчик лишился уха, от которого остались только лоскуты.
Возможно, брат Тенгри, бог шутих, отметил тот ореховый куст какой-то своей меткой, потому как один из мальчишек, бросившийся было в слезах наутёк и случайно наткнувшийся на гибкие ветки, развернулся и через миг голыми руками уже отдирал лисицу от Нарана.
Животное, словно сообразив, что эти двое несколько покрупнее полёвок, скрылось в кустах. Наран лежал до тех пор, пока друзья не привели помощь. Когда-то здесь прошёл табун, и под жухлой степной травой, под мелкими белыми цветами ромашки под лопатки ему вдавились отпечатки копыт. Наран навсегда запомнил это ощущение: жёсткая, уродливая, как карлик, земля под мягкими ромашками, и ты совсем не имеешь сил с неё встать или хотя бы чуть-чуть подвинуться.
Мальчик лежал и чудом уцелевшими глазами смотрел в небо. Было ясно, и ветер выскреб его, как воин своё оружие перед боем, от самых крошечных облаков, заточил солнечными лучами. На точки он поначалу не обратил внимания. Может, тот же ветер несёт в вышине из далёких краёв листья. Но больно странен их полёт… кружат и кружат над ним, две, нет, четыре точки, вот они приблизились и стали крестиками. Грифы.
Наран захотел зажмурится, но с веками его что-то сделалось, так, что он не мог даже моргнуть. Если сейчас не придут взрослые или не вернутся друзья, падальщики расклюют ему лицо. Проделают своими, похожими на топоры, клювами в черепе дыру и будут клевать мозг. И воспоминания так же, по кусочкам, будут исчезать. Их растащат по разным уголкам степи птицы…
Прошла долгая, размазанная по предзакатному небу минута, и мальчик услышал хлопанье крыльев прямо рядом с собой. Двое ещё кружили, примериваясь ухватить землю когтями, а двое уже здесь, из клювов их разит гнилью. Наран сделал попытку пошевелить руками, но смог только приподнять кисть, зато рот наполнился рвотой. Трава беспокойно зашевелилась, и гриф отпрыгнул, движениями – ну точь-в-точь большой жирный перепел, но сразу же подскочил ближе, разглядывая свою жертву то одним глазом, то другим. Чуть поодаль опустился чеглок и принялся склёвывать оставшуюся после схватки на траве кровь – Наран стал наблюдать за ним уголком глаз, потому что следить за падальщиком было слишком страшно.
Мир вдруг зашатался, степь будто одеяло, с которого вздумали стряхнуть сор. Звук прокатился внутри черепа, как крик внутри тесного шатра. И только потом их, своих двух посыльных коней, догнала боль. Мальчик попробовал заорать, но только захлебнулся рвотой. Он видел голову грифа прямо над собой, облезлую и свалявшуюся шерсть на голове, маленькие чёрные глазки и такие же точки-ноздри. Вонь ударила по ноздрям, и он смог наконец закрыть глаза.
Это движение, единственное, в чём повиновалось тело, произвело неожиданно сильный эффект. Было слышно, как птица отпрыгнула, как тяжело захлопали крылья. И только потом до Нарана докатился стук копыт и возбуждённые голоса. Казалось, звук шёл не из воздуха, а из земли, проникая в голову через макушку.
Наран видел грифа в воздухе всю дорогу, пока его везли на спине коня в кочевье. Конь чувствовал запах крови, пыхтел и рвался с поводьев, но взгляд и остатки внимания мальчика были прикованы к птице. Его же он видел через отверстие в юрте шаманов, когда лежал неподвижный и закутанный в одеяла, с компрессами на лице. Вновь и вновь обращал взгляд к небу и надеялся, что хищник наконец оставил его одного. Но потом круглое окошко-дымоход перечёркивал стремительный полёт, и Наран отворачивался с тем, чтобы вновь с надеждой выглянуть во внешний мир через некоторое время.
Может быть, испробовав крови, этот падальщик решил, что они двое связаны навечно.
На четвёртый день у Нарана вытек левый глаз. Словно молоко из треснутой чашки или озеро, берега которого подпортило засухой. Этот глаз видел всё хуже и хуже, Нарану казалось, что он видит куда лучше сеточку голубых капилляров, чем то, что за ней, и наконец всё исчезло совсем.
Мама сидела рядом, не отходя ни днём ни ночью, её сёстры носили вымоченные в проточной воде компрессы и прикладывали целебные травы. Щёку зашивали нитками, вытянутыми из конских сухожилий. Ради этого пустили на мясо лучшего жеребца его отца, горного верхолаза редкой в этих краях породы, который должен был принадлежать, когда мальчик подрастёт, Нарану.
– Это был хороший конь. Потомок тех коней, которые ходят по горным тропам наравне с дикими баранами и смотрят в глаза Тенгри. У него самые крепкие и самые толстые жилы, ни у одного из наших степных коней такого нет. Это был мой любимый конь, но ты – мой любимый сын. Пусть теперь всё это будет в одном теле.
Отец говорил, что теперь у Нарана будет сила жеребца. Что он сможет перекусывать и гнуть зубами железо, а питаться в походе ковылём. Что он сможет бежать без устали три дня и две ночи. Что горы он сможет перескакивать с той же лёгкостью, что и ручейки.
На второй день начала слушаться челюсть. Язык осмелел и стал выползать из своей норки между уцелевшими зубами. На груди образовалась твёрдая, как рыбья чешуя, корка, которая сошла только через два месяца.
Когда Наран набрался достаточно сил, чтобы подняться с войлочной постели, миновала зима. Настал период одурелых птичьих криков, разлившихся ручьёв, когда рыба, отродясь не водившаяся в тонких, как хвост трясогузки, степных речках, выпрыгивала из воды, чтобы блеснуть на весеннем солнце обновлённой чешуёй.
Как-то изменилось отношение к нему и у взрослых, и у детей. Получить шрам в схватке с диким зверем считалось почётным, но если ты ребёнок и у тебя половина лица в таких рубцах… Друзья-приятели его теперь побаивались, хотя с радостью бы, наверное, взяли в любую свою игру. Вот только Нарана не тянуло к детским играм.
Взрослые всё чаще звали его к костру. Отец сажал к себе на колени, водил пальцами по зажившему обрубку уха. Когда отец был на охоте или же в дозоре, Наран всё равно коротал вечера у общего костра. Как пересохшая земля впитывал россказни взрослых, считал, что тихо робеет в их обществе, сидя на коленях у отца или за спинами монголов, на самом краю света и тени, где власть чахлого степного костра сходила на нет, но скоро понял, что никакой робости, свойственной мальчишкам перед взрослыми мужчинами, не испытывал. Напротив, они испытывали перед ним скованность.
Падальщик клюнул его в висок, и позже, когда шрамы зажили, Наран мог нащупать там большую отметину. Шаман, который зашивал ему раны, сказал:
– Просто удивительно, что ты не лишился обоих глаз и остался жив. Это знак Тенгри. Грифы стараются сразу выклевать глаза и добраться через глазницы до мозга. И даже гиены, живущие в пустынях на западе, суть дикие собаки, пытаются сразу перегрызть жертве горло.
Он рассматривал отметину, и кончики усов щекотали Нарану шею.
– Какой знак?
– Кто знает? Ты должен разгадать его сам.
– Я должен был быть съеден заживо, – сказал Наран. Спохватился и задавил в голосе плаксивые нотки.
Шаман выпрямился, украшения на его шее многозначительно звякнули. Он улыбнулся, и Наран увидел застрявшие с обеда в просветах между зубами волокна мяса. Зубов у него осталось всего ничего: четыре сверху и что-то около того снизу. Шаман уже достаточно старый, и Нарану подумалось, что по наслоившейся еде можно посчитать его возраст.
– Мы достаточно задабриваем Тенгри. Мы даём его идолам много жертвенного мяса, совершаем ежедневные поклонения. Сейчас уже не то голодное время, когда приходилось выбирать, отдать ли кости предпоследнего барана Тенгри или накормить двух умирающих женщин. Не-ет. Сейчас он не даст погибнуть сынам своего племени.
Наран вспомнил позапрошлую зиму – самую страшную зиму в его жизни и в жизни многих молодых из аила. Солнце не показывалось из-за туч целыми месяцами, с самой ранней осени, так, что дети помладше спорили, круглое оно, или же квадратное. А совсем маленькие слушали рассказы стариков о белом глазе Тенгри, раскрыв рот, как будто сказки. Было очень холодно. Из под снега давно уже всё было выедено, овцы и другой скот тощали без еды, но аил не смел тронуться с места. Потому что знали: тронутся – замёрзнут в дороге насмерть. Стоило выйти из шатра, как начинала стыть в венах кровь. Пока имелось чем жечь, жгли круглые сутки костры, а потом начали расширять входы и заводили прямо внутрь коней, чтобы можно было греться их теплом. У лошадей, что слабли настолько, что не могли больше даже стоять, резали жилы на шее и выпивали ещё горячую кровь.
За одну зиму стадо уменьшилось с сотни голов до четырёх десятков.
Мальчик не осмелился спросить шамана: с чего вдруг Тенгри решил пожалеть мальчишку, если совсем недавно не щадил ни людей, ни животных, настолько уверенный был его тон, настолько властные жесты.
Вместо этого Наран спросил о грифе. Их много носилось в безграничном пространстве над степями, и нельзя было взглянуть в небо без того, чтобы не увидеть одного какого-нибудь, кружившего у самых усов великого Бога.
Наран не знал только, тот самый ли это гриф или какой-то другой, и следит он вовсе не за ним.
Шаман взялся за кончики своих усов и задумчиво потянул их в разные стороны. Усы у него пышные, словно конские хвосты, и если бы шаман не был шаманом, что само по себе уже предмет для гордости, он гордился бы этими усами.
– Видишь ли, память у них устроена так, что складывается из частичек воспоминаний тех, кому он выклевал мозг. Таких мелких, как семена мака. Поэтому старые грифы часто забываются и начинают подражать коровам или лошадям, или мышам с кроликами. Или даже вести себя как люди. Ни одна из старых птиц не умирает своей смертью – всё либо от зубов степных собак, либо под копытами лошадей, когда пытаются затесаться в табун.
– Значит, он теперь помнит то же, что я?
Шаман взглянул на мальчика с иронией.
– Твои мозги, вроде бы, на месте. Этот гриф улетел в тёплый край, мальчик мой, к своему большому брату – Пустыне, которая даже зимой прокормит его мёртвым тушканом или сломавшим ногу верблюдом. Обратно он вернётся, но про тебя уже не вспомнит. Это не очень хорошая новость, если ты жаждешь мести, правда?
Наран помотал головой и ничего не сказал.
Небо в отверстии стало светлее, а угли, напротив, съёжились, словно от холода, и распушили белую шёрстку пепла. Хорошо было бы посмотреть, как Тенгри откроет свой один глаз, и закроет второй – белый, и без того уже наполовину прикрытый веком. Редко когда верховный Бог наблюдает за ночным миром пристально и неусыпно, чаще всего жмурится в полудрёме, слушая дыхание спящих и шорохи ночных существ.
Наран потянулся к завязкам шатра, но остановился на полдороге. Незачем выпускать тепло. За это ему спасибо не скажут. А между тем, этот день он должен провести так, чтобы не запомниться никому ничем дурным. Даже такой мелочи, как толика тепла в этом промозглом предутреннем мире, стоит уделить внимание.
Зверь угомонился, ушёл вместе с остатками сна, волоча за собой свой крошечный кротовий хвостик. Вот уже семь лет, как Наран носит на себе эти шрамы. Может, когда-нибудь удастся к ним привыкнуть, думал он пять лет назад. Три года назад его снедала злость. Думал, очень трудно с таким украшением найти себе жену. Он вырос среди эти людей, и они относились к нему с пониманием до тех пор, пока не приходили от его отца за их дочерьми сваты.
Год назад он решил: настанет время, когда я уйду из аила и спрошу обо всём самого Тенгри. Не этих бестолковых идолов, у который в голове один большой пук травы, такой, что сухие стебли вылезают прямо изо рта, и не шаманов, которые подливают ему тёплого молока жалости, но и на миг не приближают к истине.
А вот теперь подумал: дальше тянуть уже нет сил.
– На севере, – говорили старики, – спина Йер-Су, матери-земли и первой кобылицы, покрывается болезненной коркой. Было время, когда степь простиралась и туда, но потом Тенгри, её всадник и любовник, решил проехаться верхом, посмотреть, как красиво низвергается водопадами вода с края мира. Дорога была дальняя, и на обратном пути от седла появились первые раны. А за ночь большие небесные оводы раскусали их ещё больше, до самого мяса. Рубцы эти заживают тысячелетия, и Йер-Су уже никогда не будет такой же красивой, как раньше. Гряда их тянется, доходили слухи, на север всё дальше и дальше, и только мистическое море, такое холодное, что целые глыбы льда плавают там, когда-то встаёт на их пути. Земля там кричит от боли, и где-то посреди этой болезненной корки можно найти торчащие наружу земляные кости.
Небо чаще, чем куда-либо, обращает туда своё лицо. И лицо его в эти моменты хмурится, и брови-тучи наползают на голубые глаза. Он обдувает землю ветрами, лечит её солнечными лучами.
«Наверное, моё место там», – думал Наран. – Я такой же изуродованный, как степь. Здоровое – ко здоровому, а больное к больному. Это естественный ток жизни».
Он думал и по-другому.
– Может быть, там я смогу поговорить с Тенгри, – говорил он своему другу, когда они вдвоём, бывало, уходили к табуну, посмотреть на лошадей, смерить следы копыт своими ступнями и отдохнуть от суеты аила.
Друга звали Урувай, и больше всего он походил на пузатого грызуна в середине осени, когда задняя и передняя его части несоразмерно разные. Серая шёрстка покрывала руки, а на груди, бывало, застревали ниточки и ворсинки от войлока. И даже привычка складывать руки на животе, казалось, досталась от какого-то животного. Вечно робкое выражение на лице, белые, трясущиеся губы. Урувай выделялся на их фоне поджарых ловких сородичей ростом, размерами и неповоротливостью. С потрясающей непосредственностью он разливал драгоценную воду и робко улыбался потом, когда его бранили, падал с лошади так, будто это самое доступное из его развлечений. Получал по своей неуклюжести раны и смотрел потом на них со смесью страха, любопытства и восторга.
На речи приятеля Урувай жал плечами.
– На это есть шаманы. Твоя работа – всегда быть готовым натянуть лук, на зверя ли или на какого врага. Твоя забота – высекать искры копытами своего коня.
Наран улыбнулся: друг часто говорил так, как будто его устами вещают умершие песняры древности. С самого детства. Это звучало очень забавно. Каждый вечер он, подыгрывая себе на разных инструментах, рассказывает возле костра сказки и предания и весь следующий день говорит словами из этих сказок. Может быть, когда-нибудь сам станет слагать песни. Опишет в них тяжёлую жизнь аила… и грядущее путешествие, в которое вот-вот сорвётся один маленький степной кот.
– Что, по-твоему, скажут старые? У нас мало людей, а ты хороший охотник.
Наран сидел, свесив между коленями ладони.
На этой странице вы можете прочитать онлайн книгу «Туда, где седой монгол.», автора Дмитрия Ахметшина. Данная книга имеет возрастное ограничение 12+, относится к жанру «Мифы, легенды, эпос». Произведение затрагивает такие темы, как «литературные сказки». Книга «Туда, где седой монгол.» была написана в 2012 и издана в 2017 году. Приятного чтения!
О проекте
О подписке
Другие проекты
