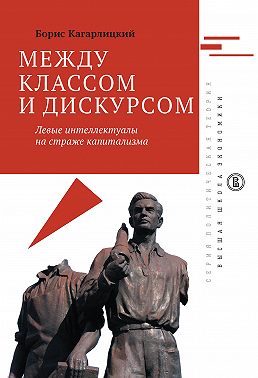Сначала автор обсуждает системную слабость левых партий и движений, проблему разрыва между ними и обществом, досадуя, что они сейчас мало чем отличаются от правых: правые всё чаще сдвигаются влево, защищая интересы и рабочего класса, а левые интегрируются с либеральной буржуазией, продвигая неолиберальные ценности.
В то же время неолиберальное движение всё больше приводит к фрагментации общества, надуманной и умело взращиваемой конфронтации как между «большинством» и «меньшинствами», так и между самими «меньшинствами».
«Различия, разделяющие людей и противопоставляющие их друг другу, всячески культивируются и подчёркиваются…».
Под видом «равных прав» по сути утверждаются незаслуженные привилегии отдельным небольшим общественным группам, так называемая «позитивная дискриминация».
Распространение идеологии мультикультурализма и политкорректности со свойственной им идеализацией меньшинств, противопоставляющихся обычно обществу «белых мужчин», направлено не против буржуазии и дискриминационной элитарной практики, а против культурных норм и традиций самого рабочего класса. Когда такие нормы навязываются агрессивно, да ещё приводят к позитивной дискриминации, то это, как правило, вызывает у притесняемого большинства (о правах которых сейчас почему-то не принято говорить вслух) реакцию обратную ожидаемой – например, рост расистских и гомофобских настроений. Тем самым происходит постепенное уничтожение гражданского общества. Это вполне отвечает интересам буржуазных элит. Групп «меньшинств» становится всё больше, и между ними возникает конкуренция в рамках позитивной дискриминации.
«Представители этнических меньшинств оказываются всё более склонны к гомофобии, борцы с гомофобией на каждом шагу оказываются исламофобами и т.д.»
Глобализация привела к уничтожению рабочих мест в США и Западной Европе, так как капитал постоянно ищет всё более дешёвые рынки труда: инвестиции приходят туда, где ниже заработная плата, ниже налоги, меньше требований к экологии производства, менее жёсткое государственное регулирование, а работники слабо организованы и неспособны защищать свои права.
Автор констатирует, что в настоящее время политические и социальные отношения в странах Запада находятся в состоянии хронической нестабильности. Если в 2014г зоной нестабильности и конфронтации были Греция и Украина, то в 2016г острые политические и социальные конфликты развернулись уже в США, Франции и Великобритании.
Довольно подробно рассматривается ситуация в Греции, где финансовый и экономический кризис принял масштабы катастрофы. К 2014 году у Греции образовался большой внешний долг и «тройка» (Еврокомиссия, ЕЦБ – Европейский Центробанк и МВФ) навязала стране унизительное соглашение - программу финансовой «помощи» в обмен на проведение «неотложных реформ», которые не решали проблему, а лишь усугубляли её. В результате экономика Греции сократилась на 27%, а долг вырос до 320 млрд.евро и стал уже совсем неподъёмным. При этом эти миллиарды евро «помощи» до страны не доходили, а оседали в немецких и французских банках, а реструктурирование долга лишь постоянно увеличивало его и прибыль кредиторов.
Отчаявшееся население на выборах в правительство в 2015г проголосовало за новый политический проект – коалицию радикальных левых СИРИЗА. Во главе правительства встал молодой и популярный политик Алексис Ципрас. Левые радикалы обещали прекратить политику «жесткой экономии» и дать отпор кредиторам. Но, когда у левых появилась возможность реализовать свои лозунги на практике, выяснилось, что новое правительство не имело ни стратегии, ни реалистичной программы, и просто не умеет бороться за интересы выбравшего его народа. Итоговый «компромисс», принятый Ципросом, оказался не только хуже первоначальных предложений кредиторов, которые Греция первоначально отвергла, но и многократно худший, чем то, что приняли предшествовавшие буржуазные правительства. В партии начался раскол, и Ципрас остался на своём посту только потому, что правящим элитам было выгодно, чтобы политику разрушения греческого общества осуществил именно левый премьер. Разгром экономики должен быть дополнен деморализацией и политическим банкротством левых сил.
Довольно подробно рассказывается об участии в избирательной кампании сенатора из штата Вермонт социалиста Берни Сандерса, который в 2016 году решился участвовать в праймериз Демократической партии и вышел в лидеры вместе с Хиллари Клинтон.
Кампания Хиллари выступала за феминизм, позитивную дискриминацию цветного населения, права сексуальных меньшинств и прочие неолиберальные нормы, и её поддерживали в основном пожилые люди и финансовые элиты. Сандерс пытался обсуждать реальные проблемы американского общества, и был популярен среди молодёжи. Если бы именно он стал кандидатом в президенты, то, вероятно, он выиграл бы выборы у Трампа, но у Берни не хватило политической воли бороться за лидерство с Клинтон до конца. Он не стал протестовать против подтасовки результатов праймериз в пользу Хиллари и сошёл с дистанции, призвав своих сторонников голосовать за Клинтон.
«Выступив с призывом поддержать Хиллари, он буквально за считанные секунды превратился из харизматичного лидера, воплощавшего надежды миллионов людей, во второстепенную политическую фигуру».
Возмущение его сторонников и избирателей было столь велико, что многие из них из протеста проголосовали за популиста Трампа, как единственного альтернативного кандидата ненавистной Клинтон, тем более, что избирательная кампания Трампа воспроизводила лозунги левых и была направлена на подрыв господства транснациональной финансовой олигархии.
«Клинтон воплощала в сознании большинства американцев всё то, что им в своей стране не нравится. Отвращение перевесило страх, и Трамп стал президентом».
Автор также кратко останавливается на ситуации в странах Латинской Америки (в основном на примере Венесуэлы), Франции и решении большинства жителей Великобритании выйти из ЕС (Brexit).
В заключении написано немного о России, «управляемой нефтяной олигархией», и о проблемах с которыми столкнулось российское общество после кризиса 2008 г. Но об этом очень кратко, без погружения в глубину.
Хорошая аналитическая работа. Возможно, кому-нибудь «откроет глаза», что в действительности стоит за «неолиберальными ценностями».