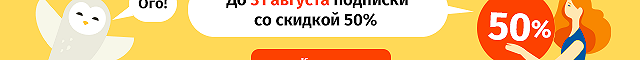У Платонова земные географические названия звучат так, словно он находит их не на нашем земном глобусе, а на небесной карте, составленной инопланетянами при содействии ангелов. Слышу в них что-то потустороннее: Потудань... Епифань...
Если Потудань представляется мне молчаливой, небесно-голубой, то Епифань, окрашенная в золото иконных окладов звучит монастырскими песнопениями с отдалённым монотонным чтением неусыпаемой псалтири. (Чевенгур, ещё непрочитанный мной, представляется всадником то ли индейца, то ли красноармейца на алеющем закате.)
Ничего странного, что Епифань отзывается небесной тайной в сердце, ведь само слово греческое "епифания" означает Богоявление и из истории городка-деревеньки, основанного в 1578 году, узнаю, что назван он в честь русского монаха и яркого писателя Епифания Премудрого, чей литературный стиль называли при жизни "плетение словес".
Если дальше продолжить сравнения от названия к самой повести, то "Епифанские шлюзы" скорей похожи на хорал Баха, исполненный на берегу Иван-озера заезжими британским или немецким гастролёром, или их дуэтом. А может быть это был один и тот же гастролёр?
Так о чем же повесть Платонова?
Это исторический курьёз, которого скорей всего не было, но фантазии писателя ничего не должно препятствовать, поэтому на историческом событии о попытке царя Петра построить канал между Доном и Окой, для чего он пригласил британских и немецких специалистов, Платонов строит не рассказ, а город в небесах с зыбучими песками, исчезающими жителями, любовными разочарованиями, несбывшимися надеждами и небывалыми страшенными казнями.
Царь Петер весьма могучий человек, хотя и разбродный и шумный понапрасну. Его разумение подобно его стране: потаенно обильностью, но дико лесной и зверной очевидностью.
Однако к иноземным корабельщикам он целокупно благосклонен и яростен на щедрость им.
Царь щедр, но только к тем, кто успешно и вовремя завершает работу, а к нерадивым работникам строг и гнев его ужасен.
Два брата Перри приезжают в Россию один за другим. Первому, Вильяму, удаётся построить шлюзы на реке Воронеж, получить награду и счастливым вернуться на родину к ждущей его невесте. У второго брата, Бертрана, приехавшего на заработки сразу не задалось в России. Местные князьки лгут и воруют, работники разбегаются, вода из бездонного колодца, что на Иван-озере, уходит в песок, да и невеста не стала дожидаться, о чем поспешила сообщить в письме.
Вся эта мрачноватая история рассказана стилизованным под древнерусский язык слогом и почему-то читалась со скрытой улыбкой, чаще грустной, что, мне кажется, так и было задумано автором.
Слов незнакомых много; в персонажах путалась, а именно британца Бертрана Перри с немцем Карлом Берганом всё норовила перепутать; в понимании строительных премудростей тоже не преуспела, но это словно способствовало моему восхищению.
Платонов о шлюзах, подземных водах пишет с неподдельным интересом и знанием, так как Платонов-мелиоратор наукой этой владел искусно.
Как известно, наиболее тяжелым в "мелиоративном" периоде Платонова было время работы в Тамбове в 1926-27 годах. Здесь он подвергся доносам и преследованиям. Среди жертв так называемого "дела о мелиораторах" были друзья Платонова. Фигурировало в обвинительном заключении и его имя. В своих дневниковых записях Платонов пишет нерадостно об этом времени:
Мелиоративный штат распущен, есть форменные кретины и доносчики
Здесь просто опасно служить. Воспользуются каким-нибудь моим случайным техническим провалом и поведут против меня такую кампанию, что погубят меня. Просто задавят грубым количеством…
Эти цитаты из дневников и писем автора пусть не прямо, но перекликаются с тем, что испытывал Бертран Перри на строительстве шлюзов и на горькой дороге к месту своей казни.
Дорога в Москву оказалась столь длинна, что Перри забыл, куда его ведут, и так устал, что хотел, чтобы его поскорее довели и убили.
От всего отчаяния Бертрана из-за невозможности выполнить работу, вернуться на родину, от опечаливших его писем изменщицы Мери, от дикой, страшной казни осталась в памяти только трубка, впившаяся в зубы и десны в кровь, да мелеющее после человеческих надругательств Иван-озеро.
Платонов из тех авторов, кого обязательно нужно перечитывать, потому что всегда находятся новые смыслы и обнаруживаешь у себя новые настроения от прочтения.