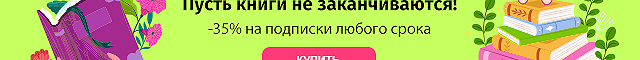
– Увидев ночью вдали зарево, я понял, что какой-то бедолага возвращается в ад, но даже не предполагал, что это ты.
– На все воля Божья, – произнес отец.
– Нет. И ты хорошо это знаешь. Там, где свирепствуют люди, имя Господа поругано. Несправедливо скопом приписывать ему деяния, которые возможны единственно стараниями человека. Иса, друг мой, кто заимел на тебя такой зуб, что сжег урожай?
– Господь сам решает, чем нас наказать, – ответил отец.
Торговец пожал плечами:
– Люди придумали Бога, только чтобы развлекать своих демонов.
Когда отец ступил с повозки на землю, пола его халата зацепилась за край сиденья, и это сразу же показалось ему дурным предзнаменованием. Лицо его побагровело от едва сдерживаемого гнева.
– В Оран поедешь? – спросил его торговец.
– Кто тебе сказал?
– Когда человек все теряет, ему больше некуда ехать, кроме как в город… Будь осторожен, Иса, это место не для таких, как мы. Оран кишмя кишит мерзавцами, не знающими ни стыда ни совести, он опаснее кобр и коварнее лукавого.
– Зачем ты несешь мне всю эту чушь? – спросил его вконец измученный отец.
– Потому что ты сам не знаешь, что делаешь. Города прокляты. Божественного промысла, посылавшего нашим предкам удачу, там нет. Те, кто отваживается туда уехать, обратно уже не возвращаются.
Отец поднял руку, призывая торговца оставить при себе свои разглагольствования.
– Купи у меня повозку. Колеса и настил в ней крепкие, мулу нет еще и четырех лет. Какую цену назначишь, такая и будет.
Торговец бросил взгляд на упряжь.
– Боюсь, Иса, что не могу много тебе предложить. Только не думай, что я хочу воспользоваться ситуацией. Здесь проезжает мало народу, и мои дыни частенько так и остаются нераспроданными.
– Мне хватит того, что ты мне дашь.
– По правде говоря, мне не нужны ни мул, ни повозка… У меня в ящике есть немного мелочи, и я с удовольствием поделюсь ею с тобой. Раньше ты нередко меня выручал. Что же до твоей арбы, то можешь мне ее оставить. Рано или поздно я найду на нее покупателя. За деньгами можешь приехать в любое время, они будут у меня в целости и сохранности.
Над предложением торговца отец даже не раздумывал, у него не было выбора. В знак согласия он протянул руку:
– Ты хороший человек, Милу, и меня не обманешь, я знаю.
– Обманывают, Иса, всегда в ущерб себе.
Отец вручил мне два тюка, взвалил на свои плечи остальной скарб, положил в карман несколько монет, которые ему дал торговец, и зашагал к матери, даже не оглянувшись на оставшуюся стоять повозку.
Мы пошли дальше, не чувствуя под собой ног. Солнце нас буквально испепеляло, его лучи, бившие прямо в лицо, отражаясь от высохшей, трагически пустынной земли, резали глаза. Мать, похожая в своем саване на мумифицированное привидение, тащилась сзади, останавливаясь только для того, чтобы взять на другую руку сестренку. Отец не обращал на нее внимания. Он шагал прямо, не снижая темпа, то и дело заставляя нас его догонять. О том, чтобы я или мать попросили его идти помедленнее, не могло быть и речи. Ноги мои были ободраны сандалиями, в горле пылал огонь, но я все же держался. Чтобы обмануть усталость и голод, сосредоточился на разгоряченной спине родителя, на том, как он нес свою ношу, на его размеренной, тяжелой поступи – когда я смотрел на нее, мне казалось, что он разгоняет пинками злых духов. Отец ни разу не обернулся, чтобы посмотреть, идем ли мы за ним следом.
Когда мы вышли на «христианский путь», то есть на асфальтированное шоссе, солнце уже клонилось к закату. Отец решил расположиться под одиноко стоявшим оливковым деревом за холмом, подальше от посторонних взглядов, и стал вырубать росший вокруг него колючий кустарник, чтобы удобнее устроиться. После чего убедился, что с того места, где мы находились, просматривалась вся дорога, и велел распаковывать узлы. Мать положила уснувшую Зару под деревом, укрыла ее узкой тряпкой, потом вытащила из корзины кастрюлю с деревянной ложкой.
– Костер разводить не будем, – молвил отец, – поедим вяленого мяса.
– Кончилось. Но у меня осталось несколько сырых яиц.
– Говорю тебе, костер разводить не будем. Я не хочу, чтобы кто-то узнал, что мы здесь… Придется довольствоваться помидорами и луком.
Дневной зной спал, листья на оливковом дереве зашевелились от дуновения вечернего ветерка. Было слышно, как в высохшей траве суетятся ящерицы. Солнце разбитым яйцом разливало над горизонтом лучи.
Отец растянулся на камне, выставив в небо колено и опустив на глаза тюрбан. Он так ничего и не съел и будто за что-то на нас сердился.
Перед самым наступлением ночи мы увидели на вершине холма человека, энергично махавшего нам руками. Поскольку с нами была мать, подойти к нам он не осмелился – ему было стыдно. Отец послал меня спросить, что ему надо. Оказалось, что это одетый в лохмотья пастух с изможденным лицом и шершавыми руками. Он предложил нам кров, но отец отказался от его гостеприимства. Пастух продолжал настаивать – соседи никогда не простили бы ему, если бы он позволил ночевать на улице семье, оказавшейся неподалеку от его хижины. Отец ответил категоричным отказом. «Ненавижу быть должником», – пробурчал он. Пастуха это обидело. Бешено притоптывая по земле ногой и сердито ворча, он вернулся к стаду своих худосочных овец.
Ночь мы провели под открытым небом: мать и Зара у подножия оливкового дерева, я под своей гандурой, отец на часах – на большом валуне с зажатым между ног кривым садовым ножом.
Утром, когда я проснулся, отец совершенно преобразился. Он побрился, умылся в источнике и надел чистую одежду: жилет поверх выцветшей рубашки, турецкие шаровары со стянутыми внизу гармошкой штанинами, которых я раньше на нем никогда не видел, и стоптанные кожаные башмаки, давно потерявшие блеск, но теперь начищенные.
Автобус подошел в тот самый момент, когда солнце только-только показалось над горизонтом. Отец свалил пожитки на крышу, а нас усадил на задней скамье. Автобус я видел впервые в жизни. Когда он тронулся с места, я схватился за сиденье, обезумев и восхитившись одновременно. На скамьях дремало несколько пассажиров, по большей части христиан, облаченных в невзрачные наряды. Пейзаж, разворачивавшийся за окнами, меня не привлекал. На меня произвел неизгладимое впечатление сидевший впереди водитель. Я не видел перед собой ничего, кроме его спины, широкой, как крепостной вал, и могучих рук, с редкой властностью крутивших руль. Справа от меня равномерно раскачивался в такт ухабам беззубый старик. У ног его стояла ветхая корзина. На каждом повороте он засовывал в нее руку и проверял, все ли на месте.
В животе у меня все переворачивалось, голова, казалось, раздулась, как воздушный шар, невыносимый запах горючего и крутые повороты наконец меня сморили, и я задремал.
Автобус остановился на обсаженной деревьями площади, напротив большого здания из красного кирпича. Пассажиры ринулись за своим багажом. В спешке некоторые наступали мне на ноги, но я этого даже не замечал. То, что я видел, настолько меня изумило, что я даже забыл помочь отцу забрать наши пожитки.
Город!
Я и не подозревал, что на свете могут существовать населенные пункты, раскинувшие свои улицы, подобно щупальцам спрута. Это было безумие. В какой-то момент я даже спросил себя, не сыграла ли со мной злую шутку дурнота, охватившая меня в автобусе. За площадью, насколько хватало глаз, тянулись ряды жавшихся друг к другу домов с высокими окнами и утопавшими в цветах балконами. Дороги покрывал асфальт, по бокам их пролегали тротуары. Я никак не мог прийти в себя, мне даже не удавалось подобрать название предметам и явлениям, которые бросались в глаза, будто сполохи молнии. Со всех сторон возвышались редкой красоты жилища, прятавшиеся за изящными, величественными, выкрашенными черной краской решетчатыми оградами. На верандах, вокруг белых столов со стоявшими на них графинами и высокими стаканами с оранжадом, блаженствовали семьи; в садах резвились румяные ребятишки с золотистыми кудряшками, их хрустальный смех брызгал под сенью листвы, подобно фонтанчикам. От этих пышных усадеб исходили душевный покой и нега, раньше казавшиеся мне совершенно невозможными, они были полной противоположностью затхлости, отравлявшей наше захолустье, где огороды загибались в пыли, а загоны для скота выглядели лучше убогих лачуг, в которых мы жили.
Мы оказались на другой планете.
Я семенил за отцом, ошарашенно глазея на островки зелени, разделенные невысокими стенами из резного камня или коваными решетками, на широкие, залитые солнцем проспекты, на уличные фонари, в своем чопорном величии напоминавшие сияющих часовых. А автомобили!.. Я насчитал их добрую дюжину. Они появлялись неведомо откуда, с треском проносились мимо, подобно падающим звездам, и исчезали за углом, не давая времени загадать желание.
– Что это за место? – спросил я отца.
– Помолчи, шагай лучше, – осадил он меня, – да смотри под ноги, если не хочешь свалиться в какую-нибудь дыру.
То был Оран.
Отец шел прямо, уверенной поступью, ничуть не страшась ровных, как стрела, улиц, без конца разветвлявшихся перед нами. Все они были настолько одинаковы, что мне казалось, будто мы не движемся вперед, а топчемся на месте. Странное дело, но чачванов[3] женщины здесь не носили и ходили повсюду с открытыми лицами. Причудливые прически венчали головы старух, те же, кто помоложе, разгуливали полуобнаженными, с развевавшимися на ветру гривами, ничуть не смущаясь мужского присутствия.
Еще немного – и суматоха осталась позади. Мы зашагали по умиротворенным, тенистым кварталам, погруженным в тишину, едва нарушаемую шумом проезжающей мимо коляски или же закрывающегося железного ставня. У дверей своих домов благодушествовали старики европейской наружности с багровыми лицами. На них были просторные шорты, распахнутые на брюхах рубахи, затылки прикрывали широкополые шляпы. Изнывая от жары, они собирались, чтобы опрокинуть по стаканчику анисовки, который ставили прямо на землю, и поспорить об очередной ерунде, машинально обмахиваясь веерами, дабы хоть немного освежиться. Отец прошел мимо них, не только не поздоровавшись, но и не взглянув в их сторону. Он старался вести себя так, будто их нет, но его поступь вдруг стала не такой пружинистой, как раньше.
Мы вышли на проспект, где зеваки пялились в витрины магазинов. Отец пропустил проехавший мимо нас трамвай и только после этого перешел на другую сторону дороги. Затем сказал матери, где она должна его ждать, оставил ей на хранение все наши пожитки, а мне велел идти за ним в аптеку, располагавшуюся в конце улицы. Сначала он заглянул через витрину внутрь, чтобы убедиться, не ошибся ли адресом, затем поправил тюрбан, одернул жилет и переступил порог. За прилавком что-то торопливо писал в толстой книге высокий стройный мужчина с красной феской на седой голове. У него были синие глаза и умное лицо. Кайма усов подчеркивала разрез, служивший ему ртом. Увидев вошедшего в аптеку отца, он нахмурился, затем поднял доску сбоку от себя и вышел из-за прилавка нас поприветствовать.
Мужчины заключили друг друга в объятия.
Поцеловались они поспешно, но ни один из них долго не хотел выпускать другого.
– Это мой племянник? – спросил незнакомец, подходя ко мне.
– Да, – ответил отец.
– Боже мой! Как же он красив!
Это был мой дядя. Раньше я о нем ничего не слышал. Отец никогда не говорил о своей семье. Впрочем, о других тоже. Он вообще редко к нам обращался.
Дядя присел на корточки и прижал меня к груди.
– Как же ты чертовски молод, Иса.
Отец ничего не добавил к этому замечанию. По его шевелившимся губам я понял, что он читает про себя строки из Корана, чтобы отвратить сглаз.
Дядя встал и посмотрел на отца. Немного помолчав, он вернулся за прилавок и продолжил разглядывать его уже оттуда.
– Вытащить тебя из твоей берлоги – дело непростое. Полагаю, у вас случилось что-то серьезное. Ты уже сто лет не навещал старшего брата.
Ходить вокруг да около отец не стал. Он разом рассказал обо всем, что произошло в нашей деревне, о сгоревшем дотла урожае, о визите каида… Дядя слушал его внимательно, не перебивая. Я видел, что его руки то хватались за прилавок, то сжимались в кулаки. Когда отец закончил, он сбил феску на затылок и вытер платком лицо. Дядя был удручен, но держался, как мог.
– Вместо того чтобы закладывать землю, Иса, мог бы взять денег взаймы у меня. Ты прекрасно знаешь, что скрывается за подобной отсрочкой. Многие наши заглотили крючок, и не мне тебе говорить, чем это для них закончилось. И как ты после этого позволил так себя одурачить?
В словах дяди не было упрека, одно лишь горькое разочарование.
– Что сделано, то сделано, – ответил отец за неимением аргументов, – так решил Бог.
– Нет, это не он приказал сжечь твои поля… Бог не имеет ничего общего с человеческой злобой. Как и дьявол.
Отец поднял руку, давая понять, что больше не желает об этом говорить.
– Я хочу обосноваться здесь, в городе, – сказал он, – жена с дочерью ждут меня на углу улицы.
– Пойдемте сначала ко мне. Отдохнете несколько дней, а я тем временем подумаю, что для вас можно сделать…
– Нет, – отрезал отец, – если человеку предстоит трудный путь, мешкать нельзя. Мне нужна крыша над головой, причем сегодня же.
Настаивать дядя не стал. Он слишком хорошо знал, какой несговорчивый у него младший брат, и даже не надеялся его вразумить. Мы отправились на другой конец Орана… Ничто так не шокирует, как резкая смена декораций в городе. Нам достаточно было пройти один-единственный квартал, чтобы попасть изо дня в ночь и перейти от жизни к смерти. Даже сегодня я против воли каждый раз содрогаюсь, воскрешая в памяти это страшное испытание.
Предместье, где мы остановились, разом разрушило чары, околдовавшие меня несколько часов назад. Мы по-прежнему оставались в Оране, но теперь его декор предстал перед нами с изнанки. Прекрасные дома и утопающие в цветах проспекты сменились нескончаемым хаосом, ощетинившимся грязными лачугами, тошнотворными притонами, шатрами кочевников, продуваемыми всеми ветрами и известными как «хаймы», и загонами для скота.
– Вот и Женан-Жато, – сказал дядя, – сегодня базарный день. – Он немного помолчал и, чтобы нас успокоить, добавил: – Обычно здесь тише.
Женан-Жато – дикое нагромождение кустарника и трущоб, кишащее скрипучими повозками, попрошайками, зазывалами, погонщиками, воюющими со своими ослами, шарлатанами и детворой в жалких обносках; знойные дебри цвета охры, задыхающиеся от пыли и смрада, злокачественной опухолью прилепившиеся к городской крепостной стене. Нищета в этом анклаве, которому и названия-то не сыщешь, царила запредельная. Что же до людей, каждый из которых представлял собой ходячее бедствие, то они буквально растворялись в собственной тени. Они казались грешниками, без уведомления и суда изгнанными из ада, заочно приговоренными прозябать на этой каторге. Сами по себе они были живым воплощением напрасных стараний земли.
Дядя познакомил нас с маленьким, тщедушным человечком с бегающими глазками и короткой шеей, комиссионером по имени Блисс, который был чем-то вроде стервятника, подстерегающего нужду, из которой можно извлечь барыш. В те времена хищников сродни ему было не счесть; из-за волн бежавших от дизентерии переселенцев, накрывавших собой города, они были неизбежны, как сама судьба. Тот, с которым столкнулись мы, не выбивался из этого ряда. Он знал о постигшем нас несчастье и понимал, что мы полностью в его власти. Помню, он носил бороденку, как у маленького чертика, непомерно удлинявшую его подбородок, и ветхую феску, прикрывавшую лысый бугристый череп. Я невзлюбил его сразу, из-за гадючьей улыбки и рук, которые он потирал с таким видом, будто собирался сожрать нас живьем.
Блисс кивнул отцу в знак приветствия и выслушал дядю, объяснившего, в каком положении мы оказались.
– Кажется, у меня есть кое-что для вашего брата, доктор, – сказал комиссионер, похоже хорошо знавший дядю, – если вам только на время, то ничего лучше вы не найдете. Не дворец, но место тихое, да и соседи приличные.
Он привел нас в патио, больше похожее на конюшню и притаившееся в самом конце узкого зловонного переулка. Затем попросил подождать на улице, встал на пороге и громко прочистил горло, чтобы разогнать женщин, – обычно так делали мужчины, возвращающиеся домой. Освободив таким образом путь, он знаком велел нам следовать за ним.
По обе стороны внутреннего дворика ютились комнатенки, набитые вышвырнутыми на обочину жизни семьями, которые пытались спастись от свирепствовавших в деревнях голода и тифа.
– Здесь, – сказал комиссионер, приподнимая занавес над дверью, ведущей в свободную комнату.
Жилище это, без
О проекте
О подписке
Другие проекты